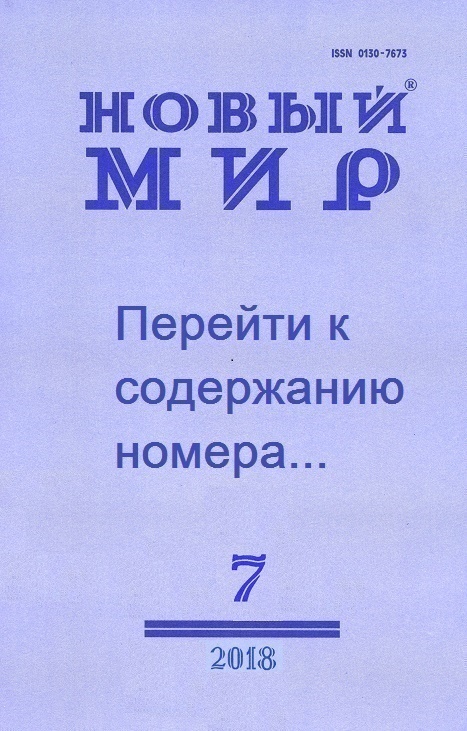
Выбор редакции
Проекты
Древний смысл «Cтарого морехода»
Эта статья делится на две части. Первая, теоретическая, будет о лингвистике, о спорных вопросах природы языка и речи, и о проблемах когнитивной функции сознания. Вторая часть, гораздо более легкая, сторицей вознаградит терпеливых: в ней я даю подробный, поясняющий суть дела пошаговый разбор стихотворения Самюэля Тейлора Кольриджа «Сказание о старом мореходе» (Samuel Taylor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner), сопровождая анализ иллюстрациями Гюстава Доре. Впрочем, желающие могут сразу перейти ко второй части, минуя теорию - хотя анализ «Морехода» реферирует к теории, он может быть прочитан и понят сам по себе.
* * *
1.
В начале XX века формалисты из ОПОЯЗа пытались научным методом вывести правила эффективного художественного письма; они описывали те приемы, которыми достигается производимое на читателя художественной литературой воздействие, выискивали те структурные элементы, сочетанием которых он обеспечивался.
Предположу, однако, что эффект, который производит на читателя художественная литература, основан не на удовольствии, получаемом разумом от интеллектуального или логического упражнения во время чтения, пусть даже такое удовольствие от художественной литературы мы часто получаем – например, при анализе аллюзий текста, при разборе структуры его сюжета, при возникновении связи с личным опытом, при расшифровке сжатых смыслов в поэзии, при исследовании узора силлогизмов диалогов в прозе, и прочее. Но основное удовольствие от художественного текста происходит, на мой взгляд, и не от эмоциональной реакции на форму, как происходит, например, при прослушивании музыкального произведения, - хотя элементы удовольствия этой природы тоже, бесспорно, содержатся в восприятии художественного текста, например, в восприятии приятной просодии, «музыки» художественного текста, его ритмического рисунка, неожиданными контрастами и образностью употребленного языка, тропами и прочими литературными приемами.
Если не то, и не другое, главным образом, то что же дает нам удовольствие от хорошего рассказа, романа, стихотворения?
Эффект, производимый художественным текстом, который мы полагаем «красивым», располагается где-то посередине двух описанных выше крайностей, - так, что, кажется, интеллект наш и сама наша способность познания при чтении словно бы вступают в взаимодействие с текстом и от этого взаимодействия наполняются каким-то новым качеством, позволяющим им в корне измениться, стать уже и не интеллектом и не способностью познания в обычном плане, а чем-то другим, чем-то новым, и этим «новым» начать постигать то, что в обычной жизни, при обычном применении методов познания и интеллекта человек не может постичь. Это нечто, чем человек начинает постигать мир с помощью художественного текста, очень ему важно и очень влечет его – словно сладко тянущее, милое и родное воспоминание из недоступного детства.
Но вот определить его, увы, человек не может.
Это нечто принято обычно называть чем-то эфемерно-неуловимым, неким «прекрасным», «духовным», «художественным», «артистическим», «высоким», - прибавьте сюда и еще дюжину вполне пустых наименований.
Дело, однако, представляется совершенно в другом свете, если мы подойдем к вопросу, исходя из гипотезы речи как сформировавшейся у человека в ходе эволюции способности к сканированию реальности (то есть, речи как инструмента, предназначенного не для коммуникации, а для калькуляции). Подробнее об этой гипотезе можно прочитать в моей недавней статье здесь.
В случае, если мы допускаем гипотезу, мы приходим к выводу, что не приемы и элементы художественного письма, в конечном итоге, наполняют художественный текст красотой и трансформируют сознание читающих текст, но некие «подводные» направляющие сознания, по которым следует текст в смысловой своей нарратологической конструкции. Эти направляющие собирают и формируют вокруг себя языковые средства подобно тому, как магнит раскладывает железные опилки на бумаге вдоль своих электромагнитных полей, придавая тексту на бумаге красоту и стройность, обеспечивая его особое интеллектуально-эмоциональное воздействие на читателя, ту самую «красоту» художественного слова.
Но что же это за направляющие сознания?
Назовем эти «линии силы» сознания пока в рабочем порядке «направляющие смысла» когнитивной функции сознания (хотя, строго говоря, речь здесь вовсе не о «смысле» в обычном его понимании, - но, выходя за рамки языка, очень сложно придумать феномену неязыковой термин, с эти сталкивался еще Жак Деррида).
Теперь произведем небольшое отклонение в лингвистику.
С шестидесятых годов ХХ века, со времени выхода в свет революционных работ Ноама Хомски, лингвистика занялась поисками правил Универсальной Грамматики (UniversalGrammar). Если до того (в XIX веке) лингвистика искала некий реально когда-то (якобы) существовавший прото-язык, мать всех языков на земле, то Хомски перевел этот поиск в область абстрактно-теоретическую и психологическую – он предположил, что в голове у каждого человека от рождения содержится некая Универсальная Грамматика, а все реально существующие языки, на некоторых из которых человек научается говорить в жизни, суть лишь частные проявления этой Универсальной Грамматики. Знание Универсальной Грамматики было бы очень полезно: помимо того, что это могло бы с точностью предсказывать пути эволюции языков, это позволило бы в теории синтезировать единый наиболее естественный для человеческого общения язык, который бы многое объяснил в том, как в точности мы познаем мир.
Увы, убедительных результатов упражнения по структурированию Универсальной Грамматики языков мы ждем по сегодняшний день. Языки как будто напрочь отказываются демонстрировать прото-общность своих мета-структур. Универсальная грамматика (Universal Grammar) на сегодняшний день имеет «за поясом» весьма мало выявленных достоверно правил, так называемых универсалий, - да и те до смешного общи, наподобие того правила, которое гласит, что в каждом языке обязательно должен быть способ задать вопрос.
Вспомним теперь, что грамматика любого языка не стабильна, со временем она меняется, иногда очень кардинально, - единственная стабильность грамматики, кажется выражается в том, что существует определенная логика и цепная зависимость в изменениях ее правил.
Таким образом, мы можем предположить, что существует не единая для всех языков, всеобщая прото-грамматика, - мать всех грамматик, некое лингвистическое супер-Лего, которое мы в юном возрасте «выбираем» сложить в тот или иной конкретный язык, но только что грамматики разных языков могут демонстрировать похожие правила своего изменения, которые чаще всего происходят по сходному принципу цепной реакции.
Теперь объединим это положение со сделанными ранее о существовании «силовых полей» сознания – «направляющих смыслов» когнитивной функции.
Тогда можно предположить, что похожие правила изменения в грамматиках разных языков похожи в силу существующих глубоко под грамматиками «направляющих смыслов». Изменения в грамматиках тогда могут быть обусловлены феноменами в когнитивной функции сознания вне функций языка и речи, они принадлежат более широкому и более древнему содержанию когнитивной функции человека (язык и речь части этой функции, но только части, причем «недавно приобретенные»).
Именно на единые у всех людей «направляющие смыслов» когнитивной функции (а не на некую Универсальную Грамматику) легко нанизываются грамматики различных языков. Действительно, языком мы легко, естественным путем овладеваем в раннем возрасте, - вопрос, однако, стоит в том, насколько «естественны» языки для изначальных «силовых полей» сознания, насколько информация, полученная с их помощью, и восприятия, обработанные ими, сохраняют или разрушают каркас изначальной, широкой, древней когнитивной функции, которую они «обвивают» собой, - подобно тому, как дикий виноград может разрушить и прочные структуры, которых «естественным образом» обвивает).
Вопрос о типологии грамматик в сравнительной лингвистике не может сводиться к вопросу об их родстве друг с другом, но, вероятнее всего, должен восходить к вопросу об отношении всех грамматик к тому что мы назвали «силовыми полями» или «направляющими смысла» когнитивной функции, - последние существуют под слоями рожденных речью сценариев будущей реальности.
Похожие в разных грамматиках цепные реакции структурных изменений говорят о стойком и единообразном стремлении сознания освободиться от излишней сложности грамматических структур, - но этот же факт, возможно, говорит о постоянном стремлении сознания освободиться от избыточных показаний инструмента (речи и языка), которые, наращивая сложность, уже мешают своими показаниями непосредственному восприятию мира сознанием.
Этот постоянно возобновляющийся «очистительный процесс», постоянные попытки возврата когнитивной функции к древним «направляющим смысла», к базовому дизайну когнитивной функции, возможно, и предопределяет похожее структурное поведение грамматик при их изменениях (традиционная лингвистика эти изменения обычно приписывают постоянному стремлению языка к обновлению, в рамках происходящих в обществе социальных и технологических изменений).
«Развитие» и изменение грамматик языков тогда, процесс хаотичный и непредсказуемый – не в смысле предсказуемости и взаимовлияния этих изменений в одних языках на другие, и предсказуемости и взаимовлияний изменений одних элементов грамматики в отдельном языке на другие элементы в том же языке, - но в смысле конечной точки, к которой все эти изменения должны тот или иной язык привести. Пытаться научно вывести, движутся ли все языки от аналитических к синтетическим (как думали раньше), или, наоборот, от синтетических к аналитическим (как некоторые думаю сегодня), не имеет смысла, единого вектора развития грамматик нет, нынешняя лингвистическая типология не может предоставить доказательств телеологических закономерностей.
Можно предположить, что грамматики языков постоянно «ломают ветви сами на себе», пытаясь вновь приблизиться к и начать следовать «направляющим смысла» широкой когнитивной функции. Возвращаясь к метафоре с диким виноградом: плющ растет вдоль опор дачной беседки, но неизбежно в конечном итоге разрастается так, что скрывает за собой беседку, скрывает вид из беседки для находящихся внутри ее, начинает развиваться вне беседки, ищет и не находит себе новой опоры, - тогда хозяин, рано или поздно, удаляет лишнее, придавая беседке приличествующий вид и функциональность.
Поверх обычных органов восприятия, существовавших миллионы лет до людей в их предшественниках - в гоменидах и затем в антропоидах, - у человека разумного-разумного около сотни (или двух сотен тысяч лет назад, точно не известно) сформировался, помимо и сверх этих органов восприятия, еще особенный, странный инструмент восприятия (скорее, сканирования) реальности – речь. Он образовался в социальном взаимодействии (о чем говорят, в частности, теории груминга и совместного усилия в происхождении языка) и параллельно, а скорее всего, тесной связи с развитием у человека моторики по созданию орудий труда и использованию их в продуктивной деятельности.
Этот новый орган восприятия реальности у человека, вкупе с ранее существовавшими органами, начал давать человеку своеобразно сформатированные образы мира, добавляя к картине мира текущего (чтобы не сказать настоящего), картину мира будущего, - точнее множественность сценариев картин мира будущего. Эти новые ряды восприятий были уже не восприятия реальности, но потенциальной реальности в контекста оценки ее в смысле потенциальных угроз и возможностей, - они начали как бы «обвивать» собой изначальные «направляющие смыслов» в когнитивной функции человека. Подобно тому, как днище корабля со временем обрастает водорослями и ракушками, и замедляет его ход, затрудняет управление кораблем, так же избыточные «речевые наросты» на когнитивной функции начинали менять направление течения восприятий в сознании, меняя обычные маршруты обработки восприятий, искажая картины текущего мира для человека на искаженные.
Наподобие того, как при долгом отсутствии влаги в организме, кости начинают разрастаться в поисках влаги и образуют артрозные наросты, так и многочисленные речевые восприятия, налагаемые на показания обычных восприятий, призванных течь по «направляющим смысла», заглушают показания традиционных органов восприятия, - а когда человек требует больше информации, разрастаются, и дают ему еще больше информации – но не о текущей картине мира, а о потенциальных сценариях будущей реальности.
От этих речевых «наростов» искажается форма всего изначального каркаса когнитивной функции, она начинает развивается в произвольных направлениях, в процессе перенимая и принимая форму языковых грамматик.
Но что это означает для предмета нашего нынешнего рассмотрения?
Художественное слово есть калькуляция в своей запретной функции, есть «деление на ноль». Речевые «наросты», искажающие древний дизайн когнитивной функции гибнут от такого действия. Снова восприятия начинаю течь по «направляющим смысла» познающего сознания. Потенциально эти восприятия могут породить другой механизм коммуникации между людьми, а если удариться и вовсе в смелые предположения, новый модус существования человека.
Возможно, нечто подобное такому воздействию на человека художественного текста, - возвращение познающего сознания на «поля силы», имел в виду Аристотель под преображающим человека эффектом сценического действия, который он назвал (слово это, несмотря на широкое употребление, до сих пор не вполне понятно специалистам) «катарсис».
Сами «направляющие смысла» – некие пре-формы познающего сознания, фундаментальные формы когнитивной функции, канала восприятия, возможно, имеющие некоторое косвенное родство с концепцией форм чистого разума Канта, - с той разницей, однако, что формы чистого разума у Канта были ограниченным числом «чистых» логических, геометрических и математических пре-форм, но число и разнообразие «направляющих смысла» когнитивной функции, вероятно, много шире. Впрочем, тот факт, что математическое, логическое мышление, интеллект играют роль в понимании и усвоении красоты художественного текста, говорит о том, что логическая компонента сама по себе не является чуждой смысловым направляющим. Но это не говорит и о том, что она каким-то образом является их основой или даже просто одной из их частей. Логические формы мышления вполне могут быть нейтральны по отношению к «направляющим смысла» когнитивной функции, не являться их системной частью, но допускаться в качестве ее «случайных попутчиков» в случае, когда стекают в сознание как бы «вдоль направляющих смысла». Человек в таких случаях получает особое удовольствие - от работы обычно назойливого и избыточного своего инструмента сканирования реальности себе на благо.
Условно говоря, таким образом, скрупулезное механистическое использование приемов Гоголя не даст нам на выходе «Мертвых душ». Труд формалистов (в отношении их конечной великой цели - «поверить алгеброй гармонию») был смысле поставленной задачи (извиняюсь за тавтологию) бессмыслен. Чем дальше, тем глубже они уходили в дебри, - в логические и семантические ряды, в открытие все новых взаимозависимостей и взаимообусловленностей приемов конструирования художественного текста.
Возвращаясь к прошлой метафоре, их попытки можно уподобить раскладыванию «от руки» аккуратно железных опилок вдоль линий электромагнитоной силы, исходя из особенностей самих опилок в отношении друг к другу и на примерах уже имеющихся опытов, когда имелись в наличии такие легшие вдоль электромагнитных линий опилки, но не зная при этом ничего ни об электромагнитном поле, ни о его силе и направлении его воздействия в этот конкретный раз.
Можно предположить, что любое литературное произведение, производящее на читателя впечатление красиво и тонко написанного художественного текста, оказывающее на читателя то, что называется «духовное», «возвышенное» воздействие, есть прежде всего произведение задуманное и написанное автором (сознательно или нет) вдоль «направляющих смысла» когнитивной функции. Язык же, его средства и приемы, которыми написан такой текст, суть в большой степени случайно легшие в таком виде вдоль этих направляющих «опилки», случайные в своей индивидуальности языковые жесты и формы языка, использовавшиеся автором, как и его литературные привычки и преференции в слоге, - которые, по большому счеты, бессмысленно анализировать сами по себе, и в отношении к себе же самим.
Коротко остановлюсь на еще одном эффекте использования нашего «недавно приобретенного» инструмента восприятия действительности, - речи, – на сей раз сугубо практического.
Продуктивная человеческая деятельность есть в огромной степени результат использования речи (как я упомянул, по одной из лингвистических теорий, язык в человеке зародился одновременно с развитием моторных навыков по созданию им орудий труда, и два этих процесса - речевой и продуктивной физической деятельности, - являются, возможно, частями одного нейро-процесса).
"Мы все работаем, чтобы забыться", - говорилось в фильме Джузеппе Торнаторе («Простая Формальность»). Но работа, наша продуктивная активность в мире, есть прямое продолжение использования языка, его моделей, накладывающихся на «направляющие смысла» в сознании.
Выводом из данного предположения был бы тот, что нагроможденное человеческим видом на Земле за время его существования «господство», «цивилизации», сменяющие друг друга, рождаются из его гипертрофированного желания безопасности и появления в человеке инструмента, культивирующего эту его (мнимую) безопасность. В процессе следования речевым моделям (в процессе работы) человек успокаивается, он получает это искомое чувство "безопасности". Но это не настоящее спокойствие - стоить человеку закончить работать (выйти из круга говорения и слитного с ним социального действия по строительству его и общей (мнимой) безопасности), к нему возвращается беспокойство, несчастливость. "Забыться" = "забыть себя". Человеку вновь и вновь приятно возвращаться к художественному использованию речи, к вымыслу, возвращающему его, на самом деле, к «полям силы» сознания, к ощущению того, что возможен иной модус его существования, соответствующий этим полям.
* * *
2.
Для иллюстрации теории проанализируем во второй части статьи стихотворение Самюэля Тейлора Кольриджа «Сказание о древнем мореходе», и попытаемся понять, чем оно привлекает читателя.
Баллада эта - одно из наиболее известных стихотворений в английской и мировой литературе. Анализ «Сказания» ( виных переводах «Баллады», «Поэмы») поможет нам в том числе начать определять освобожденные от влияния речи архетипические смысловые направляющие сознания.
Поэма Кольриджа была написана в 1798 году. При этом критики с удивлением отмечают, что стихотворение это имеет в себе мало типических черт романтической поэзии.
Как только стихотворение вышло, оно вызвало шквал критики. Известный поэт Роберт Сатли (Robert Southley) выразил одно из самых нейтральных мнений о нем тогдашней литературной общественности (с привкусом изощренного английского хамства и любви к парадоксам): «Мы недостаточно понимаем эту историю, чтобы ее анализировать». Даже друг Кольриджа, поэт Чарльз Лэм (Charles Lamb) был вынужден заявить в связи с «Мореходом», что у него нет никакого интереса комментировать эти «пустые, не подразумевающие в себе смысла чудеса». Впрочем, он заявил, что чувствует их «силу», и что оказался полностью «загипнотизированным поэмой» на несколько дней.
Последнее было очень распространенной реакцией. Поэма влекла всех каким-то заключенным в ней странным и беспокоящим смыслом, но никакого смысла в ней найти не получалось.
На первый взгляд, стихотворение, и вправду, в высшей степени странное, если не сказать нелепое. Баллада была написана зачем-то старинным языком, полна архаизмов и архаических написаний слов, при этом прыгала свободной строфой в метре народной песни. Это при том, что Кольридж и поэт Вордсворт (его друг и партнер по творчеству) договорились было тогда писать новую революционную поэзию в пику классицистской поэзии «высокого штиля»- и только современным языком.
При жизни автора, один книготорговец однажды признался ему, что книжечку, в которой отдельным изданием было напечатано стихотворение, никто не покупает, кроме моряков, которые искренне считают «Сказание о старом мореходе» старинной морской песней.
Сам Кольридж долго убеждал всех, что «поэзия приносит наибольшее удовольствие тогда, когда смыслы в ней не до конца поняты». Все вроде бы соглашались, - стихотворение было принято «официально» считать «плодом чистой фантазии», но одновременно, на протяжении более двух веков всех отчего-то очень раздражает, что в стихотворении, которое так нравится, никак не удается понять символику и мораль.
Одно время Кольридж даже сам посчитал, что написал какую-то ерунду. Он несколько раз переделывал поэму, выбросил из нее много архаизмов, поменял написание слов на современное, а слева напротив стихов пустил столбиком пояснения к поэме (как в Библии). Понятнее ничего не стало, стало еще нелепее.
Вот что писал о стихотворении друг Кольриджа, поэт Вордсворт в одном письме:
«Из того, что я могу заключить, Старый Мореход только навредил нашему сборнику – все эти старые слова и общая странность вещи заставляют читателя бросить читать поэму, не докончив. Если дойдет до перевыпуска, я на ее месте помещу какие-нибудь вещицы покороче, которые больше придутся по душе обычному читателю».
Кольридж посыпал голову пеплом и просил друга при переиздании, и впрямь, выкинуть поэму из сборника. Но когда до этого дошло, Вордсворт вдруг передумал. И хоть поместил ее на этот раз в конце, вот как пояснил свое решение включить поэму во второе издание: «Стихотворение моего друга, действительно, имеет массу дефектов. Во-первых, главный герой не выказывает никакого характера – ни в своей профессии морехода, ни попросту как человек, который настолько попадает под контроль сверхъестественных сил, что сам кажется их частью; во-вторых, он ничего не делает по своей воле, но все время является лишь предметом воздействия внешних сил; в-третьих, все эти события, вызванные внешними силами, никак не обуславливают друг друга; и наконец, в-четвертых, образность в стихотворении слишком насыщенная и изощренная. Тем не менее, Поэма содержит много тонких моментов страсти, и страсть эта явлена очень искренно, большое число строф содержит образы удивительной красоты, а выражения складываются в удивительно удачные конструкции; размер строф, хоть выбранный метр не годится для длинных стихотворений, очень гармоничен и демонстрирует вариативность, которая полностью освещает все возможности этого метра, и всю вариативность на которую этот метр способен».
То есть, заметим, Вордсворту отчего-то через некоторое время поэма начинала нравится, - хотя, как и всем, не должна была по совокупности своих анализируемых качеств! Вордсворт сам не может понять точно, почему она ему нравится и это его раздражает (потом всему миру баллада начнет нравится, но и мир так и не поймет, почему она ему нравится). Вроде, и слишком насыщенная образность, рассуждает Вордсворт, а вроде, это и хорошо. Вроде, неудачный метр для поэмы, а, вроде, нормально приклеился нелепый метр. Вордсворт говорит об очень искренней страсти, - но что это такое? Опять вспоминаем: «художественность», «духовность», «красота слова», - все эти неуловимые атрибуты художественного письма…
А вот что сам Кольридж вспоминал: «Миссис Барбольд как-то сказала мне, что ей безумно нравится Старый Мореход, но что в нем есть два недостатка: в поэме описанные невероятные события, и из нее невозможно извлечь никакой морали. Что касается правдоподобности событий, допускаю, тут могут быть вопросы; но уж морали то, сказал я ей, в поэме даже чересчур; и уж если говорить о каком-то главном недостатке, так это именно назойливость, с которой читатель в ней потчуется моралью, - мораль была и главной движущей силой и основой всей структуры в этой фантазии».
Это тоже весьма интересно: читатель не может вывести никакой морали, а Кольридж уверяет, что только одними моральными поучениями и напичкал свой текст. Стихотворение, действительно, насыщено библейскими аллюзиями, но при этом полно и произвольными, порой граничащими с комическими, придуманными самим автором символами, мистическими существами и взаимосвязями, которые не читаются обычной логикой, моральная связь событий (миссис Барбольд права) не подвластна обычному уму. Да нет там никакой связи! Известное пристрастие Кольриджа к опиуму укрепляло многих в такой мысли.
Итак, что мы имеем в сухом остатке? Нелепый метр; беспомощный сюжет, напичканный надуманными чудесами, убитая нарратология, которую могли бы в качестве примера приводить всякие бойкие писательницы в разделе своего мастер-класса «Как нельзя писать»; насыщенность непонятным читателю, плохо-читаемым архаическим языком; дикарская образность, сродни галлюциногенным эффектам.
Но остаток был другой: завораживающая привлекательность, потусторонняя, необъяснимая красота, мир до сих пор читает и перечитывает стихотворение, и до сих пор раздражается, потому что не понимает, о чем оно.
В чем тут дело?
А дело в том, что можно (говорю с некоторым преувеличением) что и как угодно писать вдоль линий «направляющих смысла» сознания, вблизи «линий силы» язык будет сам по себе очищаться от обыденности и сам по себе становится художественным, «красивым». Для того, чтобы так писать, нужно, конечно, в начале иметь мощную способность выходить из-под влияния нашего общего инструмента сканирования реальности – речи. Кольридж эту способность, видимо, имел и не от хорошей жизни: помимо того, что он был наркоманом, поэт всю жизнь страдал маниакально-депрессивным психозом.
Альтернативный способ «художественного» письма - долгий экспериментальный поиск художественных соответствий языковых средств и приемов, – то самое раскладывание частичек железной стружки в надежде попасть наугад (или «научно», что одно и то же) в «силовое поле» красоты. Так пишут здоровые.
Но что же, приступим к анализу стихотворения.
Напомню сначала вкратце содержание всей поэмы Кольриджа (с точки зрения озадаченного читателя), а затем пройдусь по тексту еще раз, поясняя и выявляя в нем те самые универсальные «направляющие смысла», вдоль которых ложилось невнятное опиумное бормотание Кольриджа, которые форматировали текст Кольриджа в шедевр.
Трое молодых людей, в неизвестную и никак не обозначенную автором эпоху (но судя по языку, в позднее средневековье), направляются на чью-то свадьбу. Они приглашенные (Wedding-Guests). Вдруг по пути на улице к ним подходит страшный и оборванный старик (Старый Мореход), он выбирает одного из молодых людей и просит выслушать историю его морских скитаний. Юноша было возражает, пытается освободиться от хватки старых жилистых рук, но потом вдруг отчего-то сдается и покорно соглашается слушать (на него находит какой-то транс). Мореход начинает свою историю. Он рассказывает юноше, как корабль их отплыл из гавани, и была прекрасная погода. Но потом случился шторм и корабль унесло им аж в южные моря, и он оказался где-то у Антарктиды (говорят, Кольридж вдохновлялся походами в южные моря тогдашних английских мореплавателей). Там было холодно, темно и одиноко, корабль потерялся в тумане. Но вот, над кораблем появился альбатрос, он указал кораблю пвыход из ледяного плена. Но стоило кораблю освободится от плена, Старый Мореход застрелил птицу из Арбалета. (В скобках замечу, где логика? А ее нет. Автор явно пытается выстроить некую очень прямолинейную аллегорию, действительно, видимо, задавшись целью преподать нам важный моральный урок – при этом наплевав на хоть какую-то правдоподобность сюжета и живость персонажей, - но какой урок?). Команда негодует на Старого Морехода за его поступок. Корабль вдруг подхватывают подводное течение и южный ветре, они тащат корабль все дальше и дальше на север, к экватору. Там корабль застывает в полном штиле под палящим солнцем на долгие-долгие дни. Команда страдает от жажды, матросы понимают, что это все «проклятье альбатроса». Команда начинает ненавидеть Морехода и заставляет его повесить себе мертвую птицу на шею, как будто крест (в скобках: а) зачем это они взяли с собой убитую стрелой арбалета птицу? б) Сколько надо было пыхнуть опия, чтобы придумать герою в наказание носить огромную и тяжеленную дохлую птицу на шее?!). Жажда томит команду так, что людям представляется, что по ровной глади моря на склизких ногах перемещаются склизкие существа. Но вот, к кораблю подплывает корабль-призрак, на борту которого Смерть и Женщина по имени Жизнь-в-смерти, эти двое играют в кости на команду корабля. Смерть выигрывает всю команду, а женщина только Морехода. Вся команда умирает, проклиная Морехода, а Мореход остается жить, и страдает от мук совести и раскаяния. Страдает он так семь дней и ночей, потом видит пляшущих в море огненных змей, и его немного отпускает – альбатрос падает с его шеи в воду, Мореходу становится еще легче. Идет дождь, герой может попить. Непонятные существа (Кольридж специально делает оговорку в сноске рядом со стихами, что это не души умерших, и не ангелы) вселяются в мертвую команду и те вновь правят кораблем. Выясняется, что корабль от Антарктиды до экватора толкал под водой некий дух холодных морей, который жаждал мщения за убитого альбатроса (дух любил альбатроса, а альбатрос любил Морехода, а Мореход его убил – не духа, альбатроса, все очень сложно). Еще какие-то неизвестные духи одним мощным рывком перемещают корабль в ту гавань, откуда корабль Морехода когда-то ушел. Странные сущности одна за другой покидают тела мертвой команды. С берега к кораблю подплывает лодка – в ней зачем-то откуда-то отшельник, и еще лоцман и мальчик, ученик лоцмана. Корабль Морехода с треском и шумом ломается у них на глазах и уходит ко дну вместе с мертвой командой, Лодка отшельника подбирает морехода. Мальчик лоцмана тут же сходит с ума. Лоцман, кажется, тоже. Отшельник держится. Он исповедует Морехода, и увещевает его: «Кто не любит, тот не живет». Потом отправляет его в вечное странствие, рассказывать встречным свою поучительную историю, - но не всем встречным, а только тем, кто готов ее услышать, то есть неким избранным, которых Мореход научился теперь различать среди людей. И вот, шедший на свадьбу юноша на свою голову оказался одним из таких. Выслушав историю, молодой человек, идет домой, там засыпает, а на следующий день просыпается «много грустнее, и много мудрее». Все, конец.
Попробуйте выдохнуть и вывести из всего этого мораль, - хоть библейскую, хоть какую. Я еще по пути выпустил много всяких мелких чудес и видений. Больше похоже на недисциплинированность наркотического бреда с мерцающими вкраплениями узнаваемых и тут же меняющих свой облик библейских ассоциаций. В музыке это называется «фантазия на тему». Вордсворт и другие были правы: тут нет никакой связной истории. И миссис Барбольд была права: здесь нет никакой морали. Я почти уверен, что и сам Кольридж про себя тоже так думал, и отбивался тем самым, что наибольшее удовольствие от поэзии получает не понимающий ее смыслов.
Но на самом деле стихотворение представляет собой абсолютно связную историю. И в ней есть абсолютно четкая и ясная мораль. И сюжет повествования стройный, последовательный.
У Кольриджа, очевидно была та способность, которую другой английский поэт Китс называл «Отрицательная способность» (Negative Capability). Он говорил, что это «когда человек умеет находиться в состоянии неинформированности, в мистерии, в сомнениях, при этом не испытывая никакого внутреннего зуда получить фактические сведения или применить разум».
Как Кольридж пришел к такой способности – другой вопрос, но, так или иначе, весь свой сюжет он расположил вдоль линий «направляющих смысла» когнитивной функции, а используемый им «недисциплинированный» язык образов затем аккуратно сам собой лег по контуру этих «линий силы», создав в восприятии читателя чувство «красоты», - или, как выразился Вордсворт, «очень искренней страсти».
Попробуем перечитать текст заново и нащупать в нем эти «линии силы».
Начальный эпизод с идущими на свадьбу молодыми людьми это аллегория жизни человека, "замороченного" речью – из-за использования речи, этого инструмента сканирования реальности, человек живет будущим сценарием собственного счастья, - он весь в будущем, а не в настоящем, он стремится к веселью и наслаждению (что может быть счастливее свадьбы?).
Но этого будущего нет, есть текущая реальность, которой молодые люди вокруг себя не замечают. Как следует из стихотворения, счастливое или не счастливое, будущее никогда не наступает – слушатель Морехода, в конечном итоге, так и не попадет на свадьбу. Но что есть текущая реальность, на которую надо обратить внимание? Неужели, это ужасный, грязный старик, который хватает нас за руки, останавливает, хочет нас заставить слушать себя - это настоящее?! Нам не хочется останавливаться…
Завороженный, юноша впадает в транс, теряет дар речи, – это аллегория того, что каждый из нас смутно тоскует по «направляющим смысла» в себе самом, по себя самому настоящему, по настоящему миру, который речь заставляет нас забыть бесконечными обещаниями будущего мира. Юноша впадает в транс, но и «просыпается», слушая Морехода.
Мореход начинает рассказ. Ледяная пустыня, в которой теряется корабль в начале повествования, это те сложности, с которыми сталкивается человек в жизни. Холод и отчуждение, которые он испытывает в мире, темнота в душе – происходят от того, что древняя когнитивная функция обросла сценариями несуществующего будущего, как мачты корабля покрылись огромными наростами льда.
And now there came both mist and snow,
And it grew wondrous cold:
And ice, mast-high, came floating by,
As green as emerald.
Над кораблем появляется альбатрос, он спасение. Это та самая «направляющая», которая просыпается в сознании человека, она не имеет отношения ни к речи, ни к разуму. Она сбрасывает оковы "льда речи" с когнитивной функции, она позволяет увидеть реальность по-новому. Интересно, что Кольридж сознательно много раз применяет к альбатросу христианскую аллюзию креста. Альбатрос в начале «crossed the path», затем был сбит из «cross-bow», затем был повешен Мореходу на шею, «like a cross».
Мореход убивает альбатроса. Сначала команда возмущается проявлением такой черной неблагодарностью к спасшей корабль птице. Но вдруг туман вокруг корабля рассеивается, и команда меняет мнение. «Это хорошо, что ты убил альбатроса, - говорят они Мореходу, - Мы ошибались. Он приносил туман и неясность». Это аллегория того, что человек, - едва выйдя из сложной ситуации, - тут же забывает о том, что (на самом деле) помогло ему спастись, он опять начинает жить в мире будущих сценариев речи, теряет ощущение себя в себе. Древняя когнитивная функция представляется ему теперь приносящей туман, неясной, ненужной.
Но тут корабль начинает неудержимо тянуть на Север, в жару (интересно противопоставление привычным зависимостям), к экватору. Это мстит Мореходу оскорбленный убийством альбатроса одинокий дух северных морей, он толкает корабль к экватору под водой.
«Подводные» направления речи толкают людей к страданиям, к страшным испытаниям, в результате которых люди «сохнут» без восприятий текущего. Кольридж специально и подробно описывает, как люди на экваторе потеряли способность речи от жажды в пересохших глотках. Если люди не научатся обходиться без речи добровольно, реальность принудит их к этому. Жажда здесь одновременно выступает метафорой отсутствия истинных восприятий, к которому привело говорение. На экваторе в полном штиле не происходит ровным счетом ничего. Этому фрагменту принадлежат одни из красивейших строк Кольриджа, ныне растащенных на поговорки. Заметим, что таковыми стали, на первый взгляд, обычные слова, наполнило их «красотой» именно расположение на критических точках «линий силы» нарратива:
Day after day, day after day,
We stuck, nor breath nor motion;
As idle as a painted ship
Upon a painted ocean.
Water, water, every where,
And all the boards did shrink;
Water, water, every where,
Nor any drop to drink.
Команда проклинает Морехода и заставляет его надеть себе мертвого альбатроса на шею. Эта тяжелая и неприятная ноша (на месте креста) символизирует покаянный труд, страдание. Теперь Мореход должен искупать свое пренебрежение к своей живой природе, повесив себе на шею мертвую природу – символ убитого им самого себя. Аналогии с христианством прямые, но Кольридж движется вдоль «направляющих смысла», вдоль которых выстроены и все религиозные нарративы, и эти направляющие, подобно (снова, но уже в другом смысле метафоры) одинокому духу южных вод, невидимо движут рассказ «под водой» сюжета и языка.
Появившийся корабль-призрак со Смертью-мужчиной и Жизнью-в-смерти в виде бледной женщины символизируют два непростых пути, лежащие перед человеком – они о том, как прожить жизнь на земле. К сожалению, выбор здесь не между счастьем и страданием, - это выбор между жизнью бездушным "живым мертвецом", и жизнью живого человека с осознанием грядущей смерти, но и новой жизни после нее. Идея случайности человеческой судьбы, о которой говорят многие трактовки эпизода, на мой взгляд, неверна. Эпизод игры в кости духами смерти почти комичен. Все предопределено «линиями силы».
Примечательно, что увидев корабль, Мореход кусает себе руку, выпивает собственную кровь, и от того, он единственный, кто может крикнуть: «Смотрите, корабль!» Но к нему возвращается не речь, это уже новый язык, идущий из глубин его, это человек истинный, это говорит его собственная текущая кровь, а не «просчет потенциальных сценариев будущего». Вкусивший своей крови, готовый каяться Мореход - единственный, кто достоин жить дальше – жить-в-смерти (женщина выигрывает его, а мужчина-смерть выигрывает всю остальную команду).
Команда умирает, проклиная морехода, - и это проклятие и упрек остается печатью на мертвых лицах, взгляд мертвецов преследует Морехода и днем, и ночью. Тут нотки другого мистика – Достоевского, - с его печалью за грехи всего мира, с личной ответственностью за грехи всех людей.
Затем семь дней и ночей, Мореход, окруженный мертвыми телами, страдает, мучится раскаянием. На седьмую ночь он видит в океане те самые склизкие существа – морских змей, но теперь они предстают ему совсем в другом свете – они волшебно красивы. Он буквально влюбляется в них. Тому, кто стал воспринимать мир по-другому самые серые невзрачные явления, вдруг представляются в своем истинном свете – и они оказываются прекрасны. Это новые восприятия от мира, которые начинают поступать к рожденному вновь Мореходу. Эти новые восприятия уже не обусловлены и не обезображены на все накладывающей отпечаток тревоги за будущее речью.
Within the shadow of the ship
I watched their rich attire:
Blue, glossy green, and velvet black,
They coiled and swam; and every track
Was a flash of golden fire.
O happy living things! no tongue
Their beauty might declare:
A spring of love gushed from my heart,
And I blessed them unaware:
Sure my kind saint took pity on me,
And I blessed them unaware.
Мореход понес свое наказание, он родился заново, альбатрос с его шеи падает в воду. В мертвую команду вселяются духи природы (вероятно, их собственная истинная природа, которую они не признавали при жизни) и они помогают увести корабль из гиблого места.
Далее некие высшие духи говорят духу холодных вод, что наказание исполнилось, и он может отпустить корабль, а покаяние Морехода будет продолжаться всю его оставшуюся жизнь. Духи теперь несут его корабль к родным берегам так быстро, что Мореход теряет сознание. Когда он приходит в себя, кроабль уже в родной гавани. Его встречает лодка с отшельником, в лодке еще лоцман и мальчик, помощник лоцмана. О том, кто они, чуть ниже.
Корабль вдруг с треском и шумом разрушается, очень быстро он скрывается под водой вместе с мертвой командой. Отшельник, лоцман и мальчик спасают Морехода.
Так кто же эти трое в лодке?
Все трое - части сознания, когнитивной способности человек (самого Морехода). Отшельник символизирует его новое сознание, обретенное опытом и покаянием, новый способ существовать, воспринимать мир и коммуницировать с ним. Теперь сам Мореход – подобно Жизни-в-Смерти, - Отшельник-Среди-Людей. Лоцман - метафора развитого языка в сознании, способности речи, и ее «рациональной» способности прощупывать и просчитывать мир, это старый умерший в Мореходе способ воспринимать реальность. Мальчик – символ ребенка, только начавшего владеть языком (только складывающий в голове грамматику, не зря он зовется в тексте «ученик»).
Что же происходит в лодке? Как только Мореход открывает рот и - даже не говорит, а лишь двигает губами – «I moved my lips» - у лоцмана (у разума) случается припадок. Мальчик-ученик в тот же миг сходит с ума. Язык видит и слышит новые способ сознания воспринимать реальность и коммуницировать, и понимает, что он больше не нужен, что он лишняя часть сознания. Он становится смертельно болен, у него "припадок". Ребенок сходит с ума, потому что он только еще постигает основы структуры языка, и вдруг слышит от Морехода нечто, что идет совершенно вразрез с постигаемой парадигмой, мир в его голове раздваивается (как раздваивался он в голове Кольриджа) противоречие для его сознания становится непреодолимо, он «теряет разум».
I moved my lips—the Pilot shrieked
And fell down in a fit;
The holy Hermit raised his eyes,
And prayed where he did sit.
I took the oars: the Pilot's boy,
Who now doth crazy go,
Laughed loud and long, and all the while
His eyes went to and fro.
" Ha! ha!" quoth he, " full plain I see
The Devil knows how to row."
Интересно, что сошедшее с ума, ставшая ненужной часть когнитивной функции принимает новый способ коммуницировать за дьявола: «Ха, ха! - вскричал юнец, - Гребец из дьявола отличный» (перевод мой – А.М.)
Юнг писал, что «темные», скрытые для сознания и недоступные его манипуляциям части личности воспринимаются человеком как «темная сторона» его личности, дьявол, которого сознание пытается экстраполировать, вывести вовне своей сознательной личности, объективировать, представить врагом рода человеческого.
Примечательно, что Мореход начинает сам править лодкой.
На берегу Отшельник благословляет Морехода на миссионерское скитание. Подобно Одиссею и Вечному Жиду (примечательные аналогии) Мореход теперь бродит по миру. Как только Мореход чувствует правильную душу, он подходит к человеку и начинает рассказывать ему свою историю.
Как и юноша, шедший на свадьбу, такие люди, услышав речь моряка, как будто впадают в транс и не могут не выслушать его рассказ. Дело в том, что Мореход вещает им уже на новом языке и выбирает он из всего рода человеческого тех людей, кто готовы услышать этот новый язык, кто уже умеют различить его смыслы. Этот тот самый новый способ коммуникации, "присоединения" людей друг к другу новым способом.
Прослушав историю, человек обращается в новую веру. Хотя Кольридж - в особенности в конце поэмы – щедро и произвольно сплавляет эту новую веру с символами христианства, в этом нет противоречия. Почему нет? Как я уже говорил, нарративы всех религий следуют особенно строго «направляющим смысла» познающего сознания.
O sweeter than the marriage-feast,
'Tis sweeter far to me,
To walk together to the kirk
With a goodly company!—
To walk together to the kirk,
And all together pray,
While each to his great Father bends,
Old men, and babes, and loving friends
And youths and maidens gay!
Farewell, farewell! but this I tell
To thee, thou Wedding-Guest!
He prayeth well, who loveth well
Both man and bird and beast.
Мореход прощается с юношей и последнее, что он ему говорит: «Тот хорошо молится, кто хорошо любит – и человека, и птицу, и зверя». В этом можно увидеть аллюзии на учения Святого Франциска, но одновременно это указание на звериную, интуитивную, древнюю природу человека, которую речевой разум считает низкой и которую с легкостью готов обидеть и убить.
Юноша, выслушав Морехода, уже не идет на свадьбу, но возвращается домой. На следующий день он просыпается новым человеком – более мудрым, но более скорбящим.
He went like one that hath been stunned,
And is of sense forlorn:
A sadder and a wiser man,
He rose the morrow morn.
Конечно, Кольридж вовсе не готовил в виде синопсиса весь описанный скелет структуры поэмы, да еще в вышеизложенной трактовке. Возможно, каркас «направляющих смысла» высветило ему его болезненное состояние; не исключено, что он лихорадочно писал текст, находясь в наркотическом или болезненном состоянии, пытаясь успеть схватить казавшиеся ему самому несвязными образы, мелькавшие в его мозгу. Раскрепощение сознания от речевых моделей вывело его на стройную архитектуру древней когнитивной функции, которую он в результате очень последовательно описал в своем произведении.
Читатель, как было сказано, делается поражен, загипнотизирован рассказом Морехода не хуже юноши, шедшего на свадьбу (в историческом плане, в начале, как и юноша, читатели вовсе не хотели этот рассказ слушать/читать).
Разобрав поэму, мы попытались лучше понять природу «искренней страсти» литературного творчества, показать, что вместо «научного» исследования средств языкового выражения этой страсти, следует искать подлежащие ей структуры в более широких, чем их обычно принято определять, пределах когнитивной функции.
Несколько универсалий этой функции (по аналогии с универсалиями всеобщей Грамматики) можно с очевидностью разглядеть в стихотворении Кольриджа. Это, прежде всего, наличие внутренней природы человека, остающейся все еще тайной для него самого, и любви как неотъемлемой части этой природы.







 Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост»
Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост» Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год)
Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год) 8 июня Александр Лазарев
8 июня Александр Лазарев
