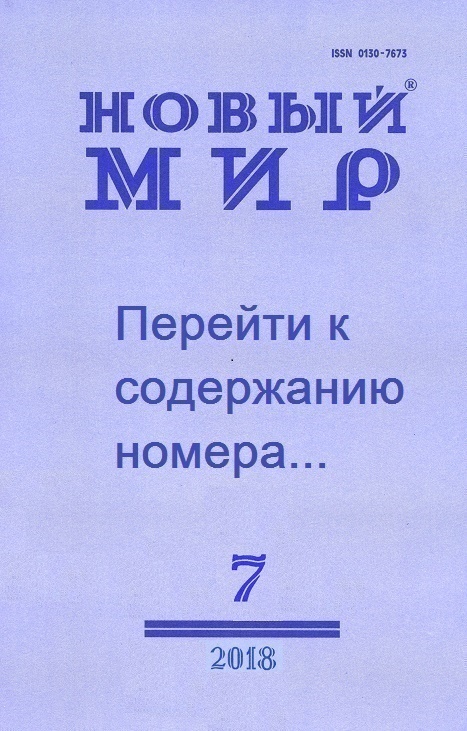
Выбор редакции
Проекты
Элиот и модерн
Когда я слышу слово модерн, моя рука…
Но что такое модерн?
Питер Чайлдз в литературной интернет-энциклопедии так объясняет термин «модернизм» (Peter Childs, The Literary Encyclopedia Online): «Модернизм по-разному определяют как период, стиль, жанр, или комбинацию всего перечисленного; … слово «модерн» часто применяют в отношении авангарда… В контексте авангарда, радикальности, прогрессивности и даже революционности родился термин «модернизм»… Большинство попыток представить альтернативные способы репрезентации, начиная с середины XIX века до, как минимум, середины XX века в тот или иной период получали наименование модернистских; термин этот применялся к литературе, музыке, живописи, кинематографу и архитектуре (к некоторым произведениям также, созданным до и после указанного периода). В поэзии модернизм ассоциируется со стремлением порвать с ямбическим пентаметром как ритмической основой стиха, с продвижением верлибра, символизма, и прочих новых форм письма».
Для меня за модернизмом стоит (прежде всего) художественная и интеллектуальная интенция «починить» старый мир, изменить его радикально, если и вовсе не поменять на новый, изобретая новые формы репрезентации и самовыражения. К сожалению, эти попытки, начинавшись искренно, весьма часто затем скатывались к старой партии игры в тщеславие и деньги. Главный импульс модернизма был создать нечто новое и современное, и в этом культурный тренд следовал в русле индустриальной революции. Но вместо того, чтобы создать некое новое долговечное направление в искусстве (или хотя бы возродить традицию в неком радикально новом виде), модернизм продуцировал «вспышки» - некоторое число гениев на разных не очень длинных отрезках времени рождали интересные, необычные концепты, создавали группы, основывали движения и направления, которые затем довольно быстро вяли, рассыпались и деградировали в бесчисленное множество культурно мало значимых, но интеллектуально амбициозных и малодоступных широкой публике «- измов» (состояние вещей, именуемое пост-модернизмом).
Далее я хочу остановиться на иконе модерна поэте Томасе Стернзе Элиоте (T.S. Eliot) и проследить то, как в знаменитом его стихотворении «Любовная песнь Альфреда Пруфрока» (The Love Song of J. Alfred Prufrock) отразилось время, самая суть модерна и судьба автора.
Стихотворение это считается началом модернизма в поэзии; оно не большое, очень простое для восприятия, его можно прочесть здесь на английском, и здесь на русском.
О чем это стихотворение?
Как и положено в модернизме, в нем все очень «новое» (а уж для того времени – 1915 год – архи-новое, шокирующее). При этом надо заметить, что в отличии от многих тогда «от сохи» выучившихся рушить основы старого мира авангардистов, Элиот был сверхобразованный интеллектуал. Он изучал философию (отдельно занимался индийской философией) и литературу в трех самых престижных университетах планеты – в Гарварде, Сорбонне и Оксфорде. «Пруфрок» - его первое напечатанное стихотворение. Сегодня оно читается так, как будто это рэп. Поток сознания сводится к основной главной теме - теме трансгрессии. «Решусь ли я?», - спрашивает себя герой.
Кратко дадим упрощенную схему стихотворения в перифразах, переводах и пояснениях:
ЭПИГРАФ
Из «Ада» Данте. Один из грешников говорит Данте: «Я бы тебе никогда не рассказал того, что расскажу, будь у тебя хоть один шанс выйти отсюда». То, что собирается поведать нам Элиот, объявляется в русле этой традиции как исследование метафизического мира, лежащего за пределами чувственных восприятий (поиск такого мира был одной из концептуальных основ поэзии для Элиота, поэзия - одним из способов поиска нового мира). То есть, эпиграф объявляет, что в стихотворении нас ожидает открытие таинства. Забегая вперед, скажем, что первая фраза первой строфы «Let us go then, you and I» следует в этом русле и отсылает к Вергилию, который в «Божественной комедии» ведет Данте по аду в роли гида. Мы, естественно, тут же ожидаем, что все случится по тому же сценарию, что и у Данте, мы спустимся (поднимемся) куда надо, и нам подробно все там расскажут и покажут. Опять же, забегу вперед: ничего не покажут и не расскажут. Более того, не понятно, вышел ли герой за все время своего внутреннего монолога из своей комнаты. Более того, не понятно, кто кого звал, куда и зачем.
СТРОФА 1
Итак, «Let us go then, you and I». Строфа описывает соблазнительные картины того, куда предлагает направится не известно кто не известно кому: «half-deserted streets», «muttering retreats», «restless nights» («полупустые улицы», «бормочущие ночлежки», «беспокойные ночи»). Это, конечно, не самый ацкий ад, но, тем не менее, похоже на первый круг ада у Данте, - там обретаются люди праведные и ученые, но не знающие Бога. Затем звучит:
«Streets that follow like a tedious argument
Of insidious intent
To lead you to an overwhelming question...
Oh, do not ask, “What is it?”
Let us go and make our visit».
“Улицы, что вьются скучным спором
В одном злонамеренном направлении
Привести тебя к вопросу, в котором потонешь…
О, не спрашивай: «Что еще за чушь?»
Пойдем, самому увидеть будет лучше». (перевод мой – А.М.)
Не известно кто настаивает на том, чтобы не известно кто пошел (вероятно, из замкнутого помещения) и посмотрел на мир каков он есть, чтобы понять главный вопрос (речь даже пока не об ответе).
«ПРИПЕВ»
Эти две строки несколько раз за стих неожиданно вклиниваются в структуру текста:
«In the room the women come and go
Talking of Michelangelo».
«В комнате женщины, они входят и выходят,
О Микеланджело речь заводят» (перевод мой – А.М.)
Кроме этих женщин, повторяется еще навязчиво в стихотворении тема чаепития с пирожными (в другом варианте, с тостами и мороженным). И женщины, и чаепитие – это символы нашего текущего видения мира, от которого надо уйти. Но именно от женщин, от чая с пирожными сложно уйти, чтобы понять главный вопрос о мире. Женщины без конца заводят речь о Микеланджело, об искусстве. Женщины (земное) без конца рассуждают об искусстве, не зная ничего о настоящей подоплеке мира и связи с ним искусства, но только потому что это «модно». Чаепитие это в том числе аллюзия на «сумасшедшее чаепитие» в «Алисе в стране чудес». Кроме того это шекспировская аллюзия земного, "радости жизни".
СТРОФА 2
Вторая строфа начинается с очень значительного:
The yellow fog that rubs its back upon the window-panes,
The yellow smoke that rubs its muzzle on the window-panes
«Желтый туман, который трет спину о подоконники,
Перечный дым, который тычется мордой в подоконники» (перевод мой – А.М.)
Модернизм в литературе появился во многом в результате ужасов войны – точкой отсчета английского модернистского письма считается 1922 год. Мы говорим об ощущении потерянности, расстрелянных, растоптанных и удушенных газом надежд, ценностей, - ощущение автора, это ощущение скитальца без дома и направления, потерянного на выжженной земле (The Waste Land - еще одно культовое стихотворение Элиота). Мы говорим здесь о пост-военном синдроме; о приобретенном аутизме сознания. Элиот гениален тем, что в 1915 году, в момент начала войны, он уже переживает этот синдром. Желтый туман, дым у Элиота, как предчувствие газовой атаки на Сомме (она случилась в 1916 году). Вся строфа посвящена этому дыму, его эволюциям, его «ворочанью». Этот дым, на самом деле, и есть главный хозяин улицы. У Набокова есть рассказ «Тяжелый дым», написанный очень в духе «Пруфрока» («Мой день был такой, как всегда: университет, библиотека, — но по мокрой крыше трактира на краю пустыря, когда с поручением отца пришлось переть к Осиповым, стлался отяжелевший от сырости, сытый, сонный дым из трубы, не хотел подняться, не хотел отделиться от милого тлена, и тогда-то именно ёкнуло в груди, тогда-то…»)
СТРОФА 3
Начинается эта строфа с поразительного дословного подтверждения пророчества о газовой атаке:
And indeed there will be time
For the yellow smoke that slides along the street,
«Верно говорю вам, придет это время
Желтого дыма, что потечет по улицам» (перевод мой – А.М.)
Строфа посвящена, впрочем, времени. В строфе из двенадцати строк время (time) упомянуто восемь раз. Время один из объектов пристального внимания модернизма. Во-первых, в глубине времен надо искать спасительную традицию, оригинальный «органичный» золотой век, намеки на то, что сделать по-иному в настоящем. Во-вторых, в принципе, концепт времени в модернизме полагается пересматривать, - вплоть до того, чтобы искать способа заставить время течь вспять. «There will be time, there will be time» - говорится в строфе («Наступит время, появится время» (перевод мой – А.М.). Но Элиот не примитивно указывает нам на то, что придет некое «новое» время. Речь здесь пока в принципе о концепте времени, даже в саркастическом тоне. «Дым приползет» означает приход смерти, ощущение ее неизбежности – знание об этом делает все вокруг ватным, вялым, старым, увядающим (у идущих на смертную казнь часто отказывают ноги, тело становится вялым, "ватным"). Элиот в строфе перечисляет много чего бестолкового, для чего будет время (например, «To prepare a face to meet the faces that you meet», «приготовить лицо для встречи лиц, что попадутся навстречу» - перевод мой, А.М.); «There will be time to murder and create», «Будет время кого-то убить, а потом сотворить» - перевод мой, А.М.)
Time for you and time for me,
And time yet for a hundred indecisions,
And for a hundred visions and revisions,
Before the taking of a toast and tea.
«Время для вас, и для меня,
И время еще для сотен сомнений,
И для сотен решений и для их изменений,
А потом настанет время пить чай» (перевод мой – А.М.)
Интересно, что в песне Б. Гребенщикова «Чай», строчка «Сейчас мы будем пить чай» заключает каждый глубокомысленный куплет. Не знаю, аллюзия ли это, прямое «заимствование» (такого много было в русском роке) или случайность. Забавно вспомнить в этой связи и песню Чайфа «Чей чай горячей». Сомневаюсь, что "Чайф "читали Элиота, но конвергенция приемов налицо. Итак, третья строфа – насмешка над временем. Вся суета вращается вокруг нелепой передышки, связанной с насыщением.
«ПРИПЕВ» - и снова звучит припев про женщин в комнате, назойливо говорящих о Микланджело.
СТРОФА 4
Сидящий в дыму, в замкнутом помещении своего сознания и доминирующих социальных конвенций (утомившись от назойливых женщин, трещащих рядом об искусстве) герой, наконец, решается на трансгрессию.
And indeed there will be time
To wonder, “Do I dare?” and, “Do I dare?”
Time to turn back and descend the stair...
«Верно вам говорю, что время придет
Задаться вопросом «Решиться?», «Решиться?»
Время вспять повернуть, и по ступенькам спуститься,» - (перевод мой, - А.М.)
Здесь речь пошла о модернистской революции, об изменении самой главной незыблемой конвенции социума – времени, об обращении его вспять. Размотать весь свой жизненный опыт и весь опыт человечества обратно. Начать с начала.
После некоторой бытовой подготовки (пальто, галстучная булавка) герой совсем было уже готов выйти и постичь истинные законы мира, но… не выходит. Он вдруг начинает сомневаться.
Do I dare
Disturb the universe?
In a minute there is time
For decisions and revisions which a minute will reverse.
«Решиться
Вселенную потревожить?
Но ведь стоит помедлить минуту,
Появится время для решений, и для их изменений,
И с каждой новой минутой появлений
Одного на месте другого». (перевод мой – А.М.)
СТРОФА 5
Герой пытается убедить себя, внушить себе мужество. «For I have known them all already, known them all» - «Я знал их всех, перевидал их все» (перевод мой – А.М.) – говорит он об этих минутах. В частности, в строфе есть аллюзия на знаменитую строчку из Шекспира «I know the voices dying with a dying fall». В «Двенадцатой ночи» реплика герцога Орсино о звучании музыки: «That strain again! it had a dying fall» - эта строка культовая, означающая именно то, что так много значило для модернизма, ощущение потустороннего присутствия в художественном звучании текста, потусторонней реальности, неуловимой «sensitivity», которая умирает, потому что с умирающим звуком, мы теряем связь с иным лучшим миром (Элиот придавал особое значение не смыслу сказанного в стихе, а ощущению, вызываемому словами, в том числе фонетике). Эту шекспировскую строчку обычно переводят как (например): «Вновь повторите тот напев щемящий», но на самом деле здесь именно «обрыв»: «Опять я удержаться тщусь! И вновь срываюсь в пропасть» (перевод мой – А.М.) - так было бы правильнее. У Элиота же тогда было бы:
«Я знал, как голоса срывались, когда срывались в пропасть
И были ниже музыки, что нам звучит из дальних комнат». (перевод мой – А.М.)
Введение шекспировской аллюзии не случайно. Главный вопрос Гамлета - «Быть или не быть?», Нерешительность принца датского – любимый мотив любого анализа самой знаменитой пьесы Шекспира. Элиот идет дальше, у него имеем принципиальную невозможность решиться.
Строфа заключается вопросом: «So how should I presume?» - «Так как же порешить мне?» (перевод мой – А.М.)
СТРОФА 6
Здесь Элиот рассуждает о том, что люди определяют друг друга, - это некое предчувствие Лакана в феноменологии Гуссерля. Как мне решится на что-то, если я - это и не я вовсе, если меня определили другие? В этой строфе Элиот описывает глаза, которые на него смотрят (зрение – одно из чувств восприятия).
And when I am formulated, sprawling on a pin,
When I am pinned and wriggling on the wall…
«Когда я сформулирован, распят на кончике булавки,
Когда пришпилен к стенке и извиваюсь…» (перевод мой – А.М.)
Строфа снова заканчивается вопросом: «So how should I presume?» - «Так как же порешить мне?» (перевод мой – А.М.)
СТРОФА 7
В этой строфе Элиот описывает руки (осязание – еще одно восприятие). Руки ассоциируются у него с чувственным удовольствием, с женщиной. И вдруг, это становятся уже женские руки. Эти женские руки удерживают его от того, чтобы решиться.
Строфа завершается строками:
And should I then presume?
And how should I begin?
«Так, нужно ль порешить мне? Так как начать мне жить?» (перевод мой – А.М.)
СТРОФА 8
Она короткая. Герой вдруг отступает. А не сказать ли мне, что я уже побывал там, на улице? Посмотрел на этот дым, поднимающийся из пустых людей?
СТРОФА 9
И сразу стало спокойно, даже уютно. Не попробовать ли мне "решиться" после чая с пирожными?
Should I, after tea and cakes and ices,
Have the strength to force the moment to its crisis?
«Быть может, после пирожных, после мороженного с чаем,
Набраться силы и решиться столкнуть момент в пучину хаоса?» (перевод мой – А.М.)
Последняя агония решимости в виде гротеска. Далее герой признается сам себе в абсурдности своих намерений. Я уж и тем хорош, что подумал о том, чтобы решиться, - говорит он себе.
Though I have seen my head [grown slightly bald] brought in upon a platter,
I am no prophet—and here’s no great matter;
I have seen the moment of my greatness flicker,
And I have seen the eternal Footman hold my coat, and snicker,
And in short, I was afraid.
«Хоть я и видел, как мою главу (слегка плешивую, признаться) внесли на блюде,
Я вовсе не пророк – ну, да и Бог с ним, люди,
Я всем сверкнул своим величьем спешным,
Затем лакей извечный, за рукава меня поймав, остановил с усмешкой,
А впрочем, я испугался». (перевод мой – А.М.)
Здесь переломный момент всего стихотворения. Герой от обреченной надежды, переходит к горько-иронической констатации поражения. Следует аллюзия на Иоанна Предтечу – но герой никакой не Предтеча, ему не кому «предтекать», и он не перешел свой Иордан (Рубикон). Он сверкнул своей "плешью", той самой гениальной вспышкой художественного бунта, о которой я говорил вначале, сверкнул моментом художественной интенции, одного только намерения изменить мир, - и теперь убеждает себя в том, что и этого довольно. На самом деле Элиот был предтечей, но предтечей Энди Уорхолла - с его «пятнадцатью минутами славы» на каждого живущего.
«Лакей извечный» - это, конечно же, дьявол, который «служит» людям в закрытой комнате.
Замечательна концовка строфы - резкое внезапное, ломающее весь ритм стиха, страшное в своей простоте и обыденности признание: «А, впрочем, я испугался».
СТРОФА 10
Следуют оправдания своей трусости и всяческие рациональные доводы. Какой смысл было лезть в этот «ад», спрашивает герой, если возвращаться пришлось бы в обычный мир, и я бы ничего не смог объяснить про потусторонний мир своей любимой. А любимая, отвернувшись к окну, говорила бы с досадой: «Это вовсе не то, что я имела в виду. Это вовсе не то».
СТРОФА 11
В строфе Элиот возвращается к (на сей раз) прямому упоминанию Гамлета. Он говорит, что сам на роль главного героя пьесы Гамлета не тянет. Максимум – на политического интригана, осторожного и верного слугу короля – Полония. И завершает тем, что он похож даже, скорее, на шута из пьесы (по-английски Fool, он же – дурак).
СТРОФА 12
С фиглярством покончено. Строфа начинается горестным, трагическим и одновременно жалким и страшным восклицанием:
I grow old ... I grow old...
I shall wear the bottoms of my trousers rolled.
«Я старею… Я старею…
Я закатаю штанины и пойду по воде» (перевод мой – А.М.)
Это сложная скрытая христологическая аллюзия, герой придумывает компромисс, бытовой способ «ходить по воде».
I shall wear white flannel trousers, and walk upon the beach.
I have heard the mermaids singing, each to each.
I do not think that they will sing to me.
«Я надену белые фланелевые брюки, и буду гулять по пляжу,
Я услышу пенье русалок, их пение друг дружке что-то скажет.
Не думаю, что они будут петь мне». (перевод мой – А.М.)
Очень показательный, резкий слом ритма. Почти переход на прозу. Просодически показана разница между языком русалок и обычным человеческим языком, миром новым, в который герой так и не попал, и миром старым. В заключительных строках Элиот говорит, что мы пребываем в подводных пещерах радениями русалок - до тех пор, пока людские голоса не пробудят нас, и тогда мы утонем.
Во всем стихотворении разлито ощущение вялости, безволия, усталости, старческого отчаяния (писал 22-летний юноша). Язык очень ясный, хоть и повествует о смутном, без прикрас, без заботы о размере – язык тоже устал. Тропов немного, но зато много аллюзий на древних и не очень древних великих мыслителей и писателей (есть аллюзии на Гесиода, Марвела, Чосера, Эдварда Фитцджеральда, мы упоминали Шекспира и Данте, и это еще не все). Эти аллюзии на великих словно ignis fatuus в стихотворении, - призрачные свечения в тумане, они не греют и не ведут. В тексте желание найти новый модус (со)существования людей ощущается почти как рвотный импульс, но тошнить в обществе не хорошо.
Величие стихотворения в том, что оно, будучи признано первым модернистским стихотворением, - основывая модернизм в поэзии - на самом деле презирает и модернизм, и пост-модернизм, предвидит их несостоятельность, в своей тоске по новому миру существует много выше и того, и другого. Новое превратится в профанирование старого. Мы все вернемся к чаю с пирожными (“tea and cakes” – перепев знаменитого идиотически-жизнеутверждающего восклицания Тоби Белча из шекспировской «Двенадцатой ночи»: “Ale and cakes!” – «Эль и пирожки!»).
Вернемся коротко к вопросу о трансгрессии и о том, как выражение трансгрессии в стихотворении Элиота отражает мир модернизма. Для этого сравним трансгрессию «Пруфрока» с трансгрессией «Старого морехода» в поэме Самуэля Кольриджа «Сказание о старом мореходе». Как вы помните, в поэме Кольриджа, написанной в размере народной песни, герой, Старый Мореход, неожиданно убивает из арбалета альбатроса - сразу после того, как птица указывает кораблю спасительный выход из ледяного плена Арктики. То есть, в виде благодарности, альбатроса убивают, и этот акт является нарушением табу. Но Кольридж писал более чем за сто лет до Элиота, и писал в русле ненавистного модернистам течения романтизма. В чем же разница нарушения табу у Кольриджа и у Элиота?
И Кольридж, и Элиот восстают против «старого» порядка вещей. Но если Кольридж атакует стылую, «заветренную» мораль, устоявшиеся взгляды на духовность, и одновременно старые литературные догмы августианского века, Элиот восстает прямо против реальности.
В случае Кольриджа результатом бунта являются смирение и обновленная вера; тема же бунта Элиота это невозможность бунта, отказ от вызова, отчаяние. Если новые догмы можно придумать, мораль можно «подкрасить», ни то, ни другое не возможно сделать с реальностью. На удивление, Элиот, первый модернист в поэзии, оказался самым матерым материалистом. Величие и новаторство Элиота-модерниста (материалиста) в «Пруфроке» в том, что он не «поет» новый мир, не зовет к нему. Элиот уже пост-модернист в этом стихотворении, и он в отчаянии от своего пост-модернизма.
Вот как описывается трансгрессия Старого Морехода Кольриджем:
"God save thee, ancient Mariner!
From the fiends, that plague thee thus! —
Why look'st thou so?"—With my cross-bow
I shot the ALBATROSS.
«Спасибо!» - Мореходу все
Кричат, - помог нам крест!
- Но что с тобой?» Тогда стрелой
Я птицу снял с небес.
(перевод мой – А.М., здесь следует пояснить, что у Кольриджа очень много указаний на крест в связи с альбатросом в этом и предшествующих отрывках: Albatros crossed the way, он был убит из cross-bow, кроме того, в восклицаниях моряков Бог и Христиане, альбатроса потом Мореход вешает себе на шею в виде нательного креста).
Ничто не объясняет нам действие Старого Морехода, ничего не подводит к нему, не было и намека на такой поворот событий. Скорость неожиданного решения, меняющего все, головокружительная. За что убивать птицу, которая только что спасла? Сами моряки ошарашены, они только спросили Старого Морехода: «Что ты так странно смотришь?» И в тот же момент он выстрелил в альбатроса.
Но первые строки четверостишья указывают на то, что моряки хвалили за спасение Морехода, а не птицу. Индустриальное и интеллектуальное тщеславие человека, его желание уровнять себя с Богом зарождались в конце XVIII века. Всю оставшуюся поэму высшие силы «учат» Морехода новой вере, новому чувству, показывают ему тот самый метафизический мир, который скрыт от людей в повседневности, - для того, чтобы он лучше понял, что происходит в его собственном мире. Мореходу показывают, что духовность гораздо глубже и ярче, чем то предполагают обычные религиозные конвенции. Одновременно Кольридж характеризует язык как опасную способность человека, могущую сбить его с пути духовности. И сам автор использует яркую образность в языке, но часто двусмыслен в том, что касается логики, - но и мореход в наказание за трансгрессию оказывается в полном штиле в океане без воды, и от суши в горле теряет способность говорить (“water, water, everywhere, though not a drop to drink”). Соленая морская вода вокруг - символ реального мира, который человек не может познать («выпить»), и человек умирает от этой жажды.
Но если герой у Кольриджа делает обычный круг – совершает трансгрессию, получает наказание, проходит через испытания, учит урок и оказывается спасен, то у Элиота герой, кажется, так и не покинул странной комнаты с женщинами. У Элиота, как бы мы сказали, замкнутый контур. Герой вновь и вновь возвращается к «чаю и пирожным», к женщинам, которые судят о Микланджело. Все повторяется и повторяется. Делать нечего (это уже Бекетт и его Годо - Nothing to be done).
С точки зрения трансгрессии, таким образом, стихотворение Элиота - это вывернутое наизнанку стихотворение Кольриджа. Все стихотворение Элиота - это мысли о трансгрессии, желание трансгрессии и отсутствие решимости для трансгрессии, по сути – отсутствие возможности для трансгрессии. У Кольриджа трансгрессия моментальна, ни одного облачка мысли или сомнения не предшествует ей. Трансгрессия у Кольриджа – это естественная часть жизни, ее необходимое звено. Вся его длинная поэма разворачивается не вокруг выбора акта, а вокруг естественного бездумного акта. У Элиота, наоборот, действия нет вообще, есть лишь размышления о нем. У Элиота все происходит внутри, у Кольриджа – (даже таинственные существа) снаружи; Элиот не может задать вопроса, а Кольридж бодро, по-фаустиански ищет ответов (и находит их); Кольридж, пусть и готический, но оптимист; Элиот уже чувствует запах иприта на Сомме.
Но вот что интересно: возвращаясь к началу статьи, и к моему отношению к модерну - возможно, и сам модерн попахивал ипритом. Элиот, между прочим, некоторое время заигрывал с французским про-фашистским движением.
То, что я сейчас скажу, поменяет целиком направление статьи. Я только приведу несколько фактов из жизни самого Элиота, а затем процитирую письмо своему другу о фильме, который недавно посмотрел. А дальше вы судите сами («Так как же мне порешить?»)
Элиот женился на Vivienne Haigh Wood 26 Июня 1915. Они разошлись в 1933 году, то есть прожили вместе 18 лет, - но и после расставания они продолжали общение. У Вивьенн были проблемы с психикой, но она очень любила Элиота. В 1938 году Элиот и брат Вивьенн Морис организовали заключение Вивьенн в сумасшедший дом против ее воли. Там она пробыла безвыходно до 1947 года, там же умерла от сердечного приступа. За все время ее пребывания в сумасшедшем доме Элиот ни разу не навестил ее...
«Дорогой …! Хотел поделиться c Вами своим открытием - посмотрите фильм ТОМ И ВИВ (Tom & Viv, 1994). Он о первой жене Томаса Элиота (и о нем самом). Глубина и тонкость конфликта меня поразили. Элиот, модернист, искавший в языке невыразимой смыслом sensitivity, искавший ухода от реальности в новую реальность, выжженный внутри знанием человек, бегущий от людей в традицию, чтобы ее видоизменить и ею починить "испортившуюся" реальность, и сам очевидно понимавший чуткой душой тупик этого направления, тупик модерна, который потом деградирует в пост-модерн, любящий при этом "сумасшедших" символистов, Рембо и компанию. И его жена, Вивьен, сходящая рядом с ним с ума клинически и реально, но бешено его любящая.
И вот динамика: он становится все более знаменит, то есть социален (в своих художественных поисках антисоциальности), а она все более реально антисоциальна (но его любит). Она ему мешает, его позорит, она уже недостойна его. И он, вместе с ее братом, запирает ее против ее воли в сумасшедший дом (в реальности за дюжину лет, что она там провела до смерти, Элиот не посетил Вивьен ни разу, прожив с ней до этого в браке 18 лет). Это предательство любви ради ложного холодного огня искусства, и ложность этих идеалов поиска нового совершенного "органического" царства, возврата к елизаветинской эпохе всеобщего блага. Это вечное скатывание идей о великом и "новом" в искусстве в привычное старое - в тщеславие и деньги. Это и о невозможности, наверное, всех идеалов. Величие и размах искусства вдруг превращаются в маленькую малозначащую точку, по сравнению с актом предательства любви. Удивительный фильм».







 Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост»
Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост» Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год)
Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год) 8 июня Александр Лазарев
8 июня Александр Лазарев
