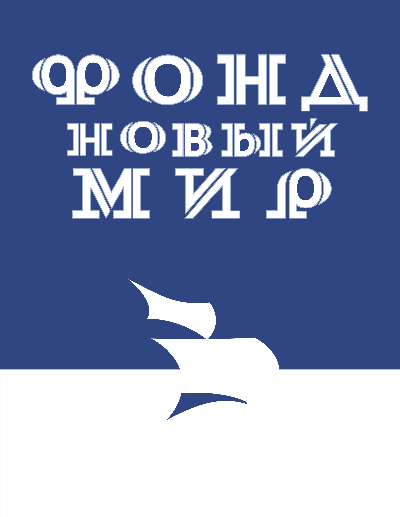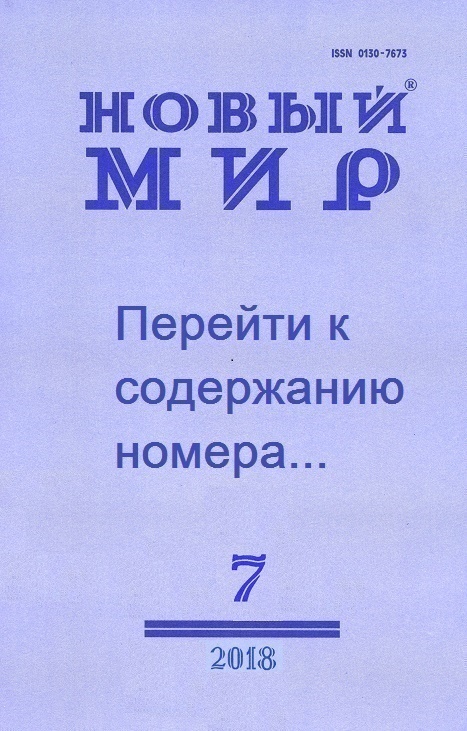
Выбор редакции
Проекты
Денисьевский цикл Тютчева
Весной решила я поучаствовать в Тютчевском конкурсе "Мыслящий тростник". Там две номинации: "Философское стихотворение" и "Философское эссе". С поэзией я как-то не в ладах, поэтому послала свой опус под названием "Драматургия "Денисьевского цикла" Ф.И.Тютчева" в номинацию эссе. В лонг-лист я еще прошла, а вот в шорт-лист меня уже не пустили. Выставляю свою "нетленку" здесь.
"Денисьевский цикл" - это принятое в российском литературоведении название ряда стихотворений Ф.И.Тютчева, посвященных Елене Александровне Денисьевой, которая была возлюбленной поэта на протяжении 14 лет, вплоть до самой своей смерти.
"Драматургия "Денисьевского цикла" Ф.И.Тютчева"
В русской литературе найдется не так уж много комплексов стихотворений, посвященных любимой женщине, подобных так называемому "Денисьевскому циклу" Федора Ивановича Тютчева. Среди профессиональных литературоведов бытует мнение, что данный тютчевский цикл - это своеобразный роман в стихах, продолжающий прозаические традиции романов XIX века. Я категорически не согласна с этим утверждением. По моему мнению "Денисьевский цикл" - не что иное, как почти совершенный образец драматургии. В своей хронологической последовательности и логическом развитии он выстроен именно по канонам драмы: драматический узел, композиция, кульминация и развязка, объединенные единым действием, развертывающемся в непрерывной драматической борьбе. Конечно, цикл писался не как пьеса и по формальным признакам он не принадлежит к области драматургии. Тем не менее я утверждаю, что это именно пьеса, задуманная лучшим драматургом всех времен - самой жизнью, и выплеснутая на бумагу стихотворным даром великого русского поэта. Пьеса, не написанная по классическим законам жанра. Пьеса, не получившая своего сценического воплощения. И все-таки пьеса.
Попытаюсь это доказать.
Написанный одним и тем же человеком, цикл разговаривает со своим читателем разными голосами. В нем есть как стихи от первого лица, так и строчки, произнесенные от лица молодой девушки, и даже строфы как бы от третьего лица, от некоего постороннего наблюдателя, которые в пьесе определялись бы как авторские ремарки. Таким образом, цикл совершенно свободно разбивается на отдельные роли. В действующих лицах мы легко обнаруживаем главного героя, главную героиню, условную массовку ("Толпа вошла, толпа вломилась...") и даже необходимый авторский текст. Можно сделать вывод, что "Денисьевский цикл" структурирован практически как настоящая пьеса.
Любую драму образует, прежде всего, страсть. В драматургии под страстью не обязательно подразумевается именно любовная страсть, это может быть жажда власти, стремление к деньгам, желание изменить окружающий мир путем каких-нибудь революционных преобразований. Только это должна быть именно страсть. Страсть, раскаленная до предела, всепоглощающая, лишающая разума, перешагивающая через все условности, обычаи и традиции, и одновременно приносящая подлинные страдания, мучительные сомнения. Страсть неизбежно порождает конфликт, без которого драматургия немыслима.
Основу основ и начало начал всякой драмы составляет драматический узел, т.е. та конструкция, на которую будут нанизываться все последующие действия и события, в итоге сплетающиеся в единое цельное полотно пьесы. Драматический узел обычно есть плод фантазии драматурга, результат его художественного вымысла, но в данном случае его завязывает сама жизнь. В "Денисьевском цикле" драматический узел зиждется на запретной, и даже преступной, с точки зрения общественного мнения, любви молодой девушки и женатого мужчины. Невозможность для героев ни жить вместе, ни существовать раздельно диктует тот особый накал страстей, который и порождает драматическое произведение.
Сам о том не подозревая, Тютчев выстраивает композиционно свою пьесу-цикл как опытный драматург, придерживаясь классической формулы: экспозиция-конфликт-кульминация-развязка. Вот два первых стихотворения цикла - "Пошли, Господь, свою отраду ..." и "Как ни дышит полдень знойный ...". Переходя на драматургические термины, можно констатировать, что эти стихи - экспозиция пьесы, автор знакомит нас со своим главным героем, рассказывает о его любви, но зрителю пока не ясно, ответна ли эта любовь, счастлив или, наоборот, несчастлив в этой любви герой. Зато явственно слышен зачин дальнейшей интриги, дальнейшего развития хода событий - "Здесь влюбленного поэта веет легкая мечта". Влюбленный надеется на то, что его чувства будут взаимны, а зритель - на продолжение истории.
Дальше мы наблюдаем бурное развитие романа, торжество вечной любви. О силе и глубине этого чувства можно судить по строчкам стихотворений "Я очи знал, - о, эти очи! Как я любил их - знает Бог!", "Последняя любовь", "Сияет солнце, воды блещут ...", "Не раз ты слышала признанье ..." и др. В них ликует счастье разделенной любви, радость земного бытия, вернувшаяся к герою вопреки всем физическим законам молодость. Герой по-настоящему счастлив, он любит, он любим, и щедро делится со зрителем-читателем своими эмоциями.
"О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней ...
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!.."
Поэту кажется, что любовь словно разлита в окружающем его мире, она везде и повсюду, все на этой земле дышит и живет одной любовью.
"Поют деревья, блещут воды,
Любовью воздух растворен,
И мир, цветущий мир природы,
Избытком жизни упоен ..."
Как вдруг радужная картина поэтического мира начинает постепенно меняться, в этой песни торжествующей любви проявляются нотки горечи, слышны отголоски какого-то неясного пока для зрителя противоречия:
"О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!.."
По канонам жанра драматургии идет нарастание конфликта, который существовал изначально, но долгое время оставался подспудом, не проявляясь в действии. Монологом главной героини звучат уже явственно декларирующие раздор влюбленных строчки:
"Не говори! Меня он как и прежде любит,
Мной, как и прежде дорожит...
О нет! Он жизнь мою бесчеловечно губит,
Хоть, вижу, нож в его руке дрожит ..."
Своеобразная авторская ремарка лишь подтверждает давно зародившийся разлад в отношениях пары:
"Она сидела на полу
И груду писем разбирала
И, как остывшую золу
Брала их в руки и бросала.
Брала знакомые листы
И чудно так на них глядела,
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело ..."
Эти строчки страшным, инфернальным предсказанием отзовутся впоследствии в реальности, но пока еще ничто не предвещает печального конца. Мало того, мы замечаем, что кроме противоречий между героем и предметом его обожания, выявляется еще одна сторона конфликта - между влюбленными и обществом.
"Судьбы ужасным приговором
Твоя любовь для ней была,
И незаслуженным позором
На жизнь ее она легла!.."
Эта третья сторона конфликта не выписана ярко, она проходит как бы задним фоном, отдаленно, но пронзительная грусть строчек "Толпа вошла, толпа вломилась в святилище души твоей ..." дает ясное представление о том, насколько зависимы наши герои от общественной морали.
Нарастающий конфликт по законам драматургии неизбежно должен закончиться кульминацией - точкой наивысшего напряжения пьесы, неким моментом истины, после которого обязательно наступает развязка. В нашей пьесе такой кульминацией стала тяжелая болезнь героини:
"Весь день она лежала в забытьи,
И всю ее уж тени покрывали ..."
Летний дождь в стихотворении подобен образу ангела-хранителя, который, как еще кажется, способен вернуть умирающую к жизни. Лежавшая ранее без сознания молодая женщина при звуках падающих струй воды внезапно пришла в себя:
"И медленно опомнилась она,
И начала прислушиваться к шуму ..."
Затаив дыхание, зрители сопереживают героям драмы и надеются на возможное чудо, на ее благополучный исход, но наступает трагическая развязка. Последние слова "О, как все это я любила!", сказанные героиней о себе уже в прошедшем времени, звучат как окончательный аккорд, не оставляющий никакой надежды.
Несмотря на наступившую развязку, конфликт пьесы продолжает развиваться. Теперь это уже внутренний конфликт главного героя, вбирающий в себя его чувство вины перед загубленной (пусть и невольно) жизнью, тоску по прошедшей любви, осознание невозвратимости утраты.
"О Господи!.. и это пережить ...
И сердце на клочки не разорвалось ..."
Мучимый болью потери, поэт обращается к Богу:
"О Господи, дай жгучего страданья
И мертвенность души моей рассей:
Ты взял ее, но муку вспоминанья,
Живую муку мне оставь по ней ..."
Многослойный конфликт этой драмы во всех его ипостасях - конфликт героя и героини, конфликт влюбленных с обществом и, наконец, конфликт героя с самим собой после ее смерти - в его логическом построении и составляет ту драматическую борьбу, тот "поединок роковой", без которых невозможна драма.
И еще одно наблюдение не дает мне покоя. Любой драматург, приступая к написанию пьесы, чаще всего уже знает ее конец, что вполне объяснимо. Фабула пьесы выстраивается заранее его художественным воображением.
Стихотворение Ф.И.Тютчева "Предопределение" было написано примерно в 1851 или 1852 годах, в начале романа с Е.А.Денисьевой, когда даже самый отъявленный пессимист не осмелился бы предречь его столь роковую развязку. И тем не менее, в десяти строчках этого стихотворения как в "Книге перемен" с пугающей точностью воспроизведен последующий жизненный сюжет основных героев этой драмы. Даже в самом его названии - "Предопределение" - звучит мотив некоего таинственного прорицания.
Каким образом Ф.И.Тютчев смог так верно предсказать грядущее? Наверно, все-таки большой поэт - всегда пророк в своем Отечестве, а мысль изреченная, тем паче написанная, всегда становится явью.
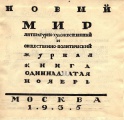



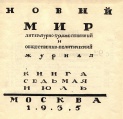

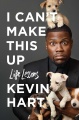
 Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост»
Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост» Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год)
Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год) 8 июня Александр Лазарев
8 июня Александр Лазарев