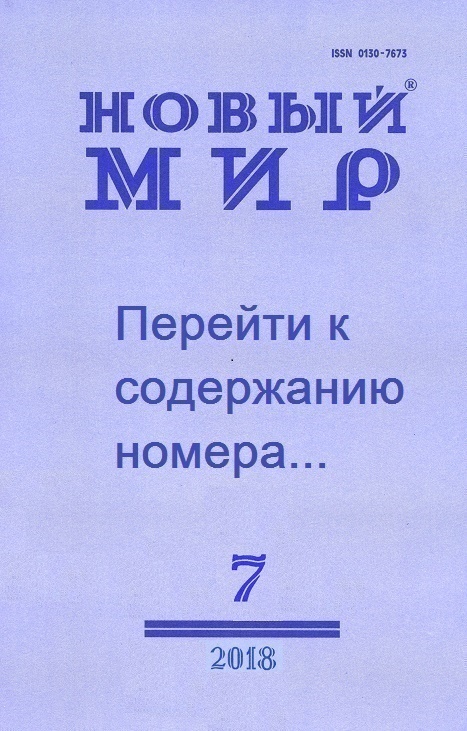
Самое популярное
Марианна Ионова о материалах «Нового мира», 2016, № 8: о прозе Бориса Екимова и Льва Данилкина, об эссе Дмитрия Бавильского и о переводах Фернандо Пессоа.
Борис Екимов
Среди прозы номера хочется выделить рассказ Бориса Екимова «Живые помощи». Его герой – старик, житель сегодняшнего Волгограда – сталкивается с невозможностью, как чисто ситуационной, так и сущностной, вербализировать свой, как мы сейчас говорим, травматический опыт – детства в военном Сталинграде. В приближенное к реальному времени течение волгоградского, нарочито пенсионерски-размеренного настоящего вторгаются, часто крупными планами, эпизоды сталинградского детства, причем и довоенного, идиллического, тоже. Их кинематографичность оттеняет обреченные попытки героя перевести в слова то, что навязчиво оживляет зрительная память. Псалом, первые слова которого дали название рассказу, читает, молясь во время бомбежки, мать героя; попытка научить этому псалму малолетних внуков также терпит неудачу – ведь, по сути, речь идет о передаче опыта страдания, что невозможно.
То, что мы, читатели, видим во флэшбеках, одни и те же «планы», снова и снова встающие перед внутренним зрением героя, сам он не может сделать последовательной историей для внуков, и не только потому, что по возрасту те еще не готовы спокойно и внимательно от начала до конца ее выслушать. И не только потому, что произнесенные слова гасят ужас, тогда как главное в детском опыте героя не факты и подробности, а ужас. Отказ непоседливых малышей слушать деда, отчасти раздражающий и его и читателя, – образ абсолютной несовместимости ребенка и того ада, в который превращает человеческие будни война, оставляя при этом буднями. Екимов верен своей склонности к повторам, к нагнетанию как приему: образ отражается и усиливается двумя другими. Стишок, представляющий войну глазами ребенка и озвученный устами ребенка по детскому радио, который и запускает воспоминания старика, и дети (опорный, центральный образ), в самозабвенном веселье лазающие по военной технике возле музея Сталинградской битвы. Этот второй указывает еще и на несостоятельность официальной риторики, которая заведомо «не о том» и тщится выразить антагонизм жизни и ее разрушения через символы разрушения – поскольку не владеет языком жизни. Лазающие по танкам и пушкам дети – не торжество мира над войной, а наоборот, полное поражение мира, у которого отняли язык, и герой это интуитивно понимает. Отсюда его мечта выкупить участок земли, хутор, и устроить на нем, пусть локальный, частный, рай для своей семьи, прежде всего для младших ее членов. Поскольку единственный способ рассказать о войне – это «рассказать» о мире.

Лев Данилкин
Нельзя обойти вниманием главу из биографии Ленина, написанной Львом Данилкиным для серии «ЖЗЛ». Глава описывает четырехлетнему пребыванию Ленина в Париже. Читая ее и памятуя, что это все же только одна глава книги, в какой-то момент волей-неволей приподнимаешь несуществующую шляпу перед объемом работы адовой. Сколько же материала прошло перед глазами автора, а главное, через тот фильтр, без которого не было ни дистанции, ни человечности по отношению к самому человечному человеку, вместе придающих иронии автора ровный, но отнюдь не холодный блеск. Для Данилкина нет незначительного, второстепенного, житейски-пошлого, вообще лишнего. Партийные разборки, то есть текущая партийная жизнь, и повседневная парижская жизнь четы Ульяновых (не последнее место в которой занимал велосипед, а в повествовании, соответственно, – кража у Ленина этого предмета первой необходимости) даны даже не параллельным монтажом, но слитно, и смешанно, и взболтанно. Столкновения, территориальные и идеологические перемещения многочисленных (а что делать, если столько уж их было чисто исторически) персонажей, разномасштабные события, как от поднесенной спички, вспыхивают эксцентрикой при попустительстве непредвзято-лукаво-беспощадного-«голубого» авторского глаза; атмосфера на поверку очень французская, почти а ля Жак Тати. Далекий помыслами от перипетий ленинской судьбы читатель продирается сквозь чехарду «вынужденных» решений и «необходимых» шагов, чтобы вместо гипсового Ильича с двумя кепками (канонизированного или демонизированного – не важно) увидеть авантюриста-социопата, личность неиссякаемой энергии и по-своему ежедневно трудной жизни, в которой хватает проблем и при этом нет ни одной, способной остановить его хоть на секунду.
Дмитрий Шостакович
А что касается проблем, которые умение В. И. Ульянова разбираться с проблемами принесло стране, выбранной в качестве трамплина для мировой революции, то о них напомнит один из материалов, публикуемых под рубрикой «Мир искусства». Эссе Дмитрия Бавильского, приуроченное к 110-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича и посвященное отношениям юбиляра с советским миром (искусства), содержит одно-два места, где в толще очевидных азов проговорено не удобное и не привечаемое:
«Для меня символом главного противоречия советской культуры уже давно стали финальные сцены парадов из праздничного набора пафосных фильмов <…>. После парадного прохода по главной улице с оркестром, все эти красивые люди возвращались в разрушенный, стесненный быт коммуналок и в засыпные дома с удобствами во дворе. Фасад советского проекта выглядел монументальным, но за этой помпезностью скрывалась тотальная нищета и извращенность социальных отношений. Солисты балета или спортивные чемпионы, восхищавшие мир, возвращались обратно в тюрьму. Совсем как армия победителей, освободивших Европу после Второй мировой: «смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою…» Долгое время я не мог понять, почему совершенно не могу смотреть советские фильмы, причем, любые, от революционных и военных драм до мелодрам и комедий. Недавно осознал: потому что все они – про тщету выбраться из-под красного колеса, про материальную нищету и вынужденную, с кровавыми слезами выбиваемую духовность, в которой нет ни логики, ни смысла. От Козинцева и Трауберга до Гайдая и Тарковского – один только смрад тюрьмы, выбираться из которой следует любыми способами».
Фернандо Пессоа
Под рубрикой «Новые переводы» опубликованы отрывки двух од (на самом деле законченные стихотворения) Алвару де Кампуша в переводе с португальского Ирины Фещенко-Скворцовой. Ей же принадлежит перевод «Книги непокоя» Фернандо Пессоа (ортонима де Кампуша), выпущенной в этом году издательством «Ад Маргинем». Хотя корректнее было бы указать автором прозаической «Книги непокоя» Бернарду Суареша, полу-гетеронима Пессоа. Чьим гетеронимом является упомянутый Алвару де Кампуш, автор знаменитой «Морской оды». Отрывки од предваряет вступительная статья переводчицы, вкратце, но не бегло вводящая во вселенную, сотворенную португальским модернистом из и для своих гетеронимов – «подставных лиц», от имени которых он не просто публиковал, а сочинял тексты. Система, которую эти индивидуализированные вплоть до внешней портретности, не говоря уж о творческой, каждый с биографией и, как сказали бы сто лет назад, собственной физиономией, субъекты образовывали своими пересечениями, взаимовлияниями, отталкиваниями и преемствами, – система, подчиненная замыслу внеположного ей субъекта – самого-таки Фернандо Пессоа, и приоткрывается в этой статье.





 "Спёр" и "своровал" (920)
"Спёр" и "своровал" (920) Свадебное фото (801)
Свадебное фото (801) Интервью С. Труханова (646)
Интервью С. Труханова (646)

