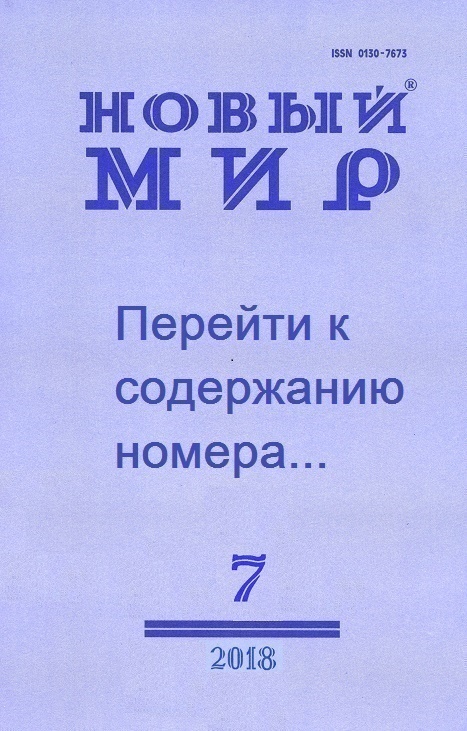
Выбор редакции
Проекты
Марианна Ионова о публикациях «Нового мира», 2017, № 7: об очерке Олега Ермакова "Вести с речки Невестницы", подборке рассказов Анатолия Гаврилова и Павла Елохина "Мир на крыше", опыте Сергея Солоуха и рассказе Владимира Данихнова.
И. С. Соколов-Микитов
Под рубрикой «Далекое близкое» напечатан очерк Олега Ермакова «Вести с речки Невестницы», посвященный земляку автора – Ивану Соколову-Микитову, чье 125-летие таким образом отмечает журнал. Современный реалист отнюдь не сторонним взглядом прослеживает жизненный и литературный – в их характерном для писателей такого типа, как Соколов-Микитов, наложении – пути своего предшественника. И эта вовлеченность служит добрую службу не одному юбиляру, но сразу многим фигурам, некогда рассованным по «перифериям» вроде детям о красотах родной природы или юношеству о дальних странах. А сама интонация, сердечно-личная, лишенная всякой позы, и неказенный пиетет переносят читателя к страницам, написанным где-то в 20-е годы кем-нибудь из немалочисленных пишущих представителей «Руси уходящей». И кажется, что умолчание о послевоенных годах в творчестве дожившего до середины 70-х Соколова-Микитова, затхло-советских годах «воспевателя родной природы», красноречиво.
Между тем юбилейная цифра содержит в себе тему не написанного пока пространного текста – о феномене рожденных в последнем десятилетии XIX века. Среди которых были те, кто определили собой русский литературный XX век, и те, кто определили место века XIX-го в XX-м. Соколов-Микитов и Паустовский словно неслучайно родились в один год, однако не странно ли, что Мандельштам старше их на год, Пастернак – на два, и всего тремя годами моложе Пильняк и Добычин. Как будто русский классический реализм некоторых в этом поколении «отпустил», а другим – завещал. Одни сохраняли, другие – отталкивались, сознательно или бессознательно встраиваясь в наднациональный контекст модернизма и встраивая в него русскую прозу. По какому же принципу шло разделение среди возраставших со столь малым отрывом? Выбор «учителя»? Равнение на до-мозга-костей-реалиста Бунина? Но для того же Соколова-Микитова в его формировании Ремизов был не менее важен.
NB. Для меня есть нечто пустопорожне-знаковое и отрадное в том, что Василий Никифоров-Волгин «перекинут» за межу столетий и, таким образом, на год младше Платонова, Олеши, Набокова и Вагинова. Вы скажете: да не смешно ли упоминать первого и четверых других одной фразой; да, Никифоров-Волгин, расстрелянный сорокалетним, успел достаточно, чтобы мы знали его имя, и не успел почти ничего; да, он был изолирован в своей Нарве от любого контекста, что западного, что советского, – но мы уже не можем смотреть на литературу первой трети прошлого века так, будто Никифорова-Волгина там нет.
…Или о таком феномене: чем более ориентировался писатель стилистически на классическую русскую прозу, чем более он в советской парадигме оказывался «детским». Сомнительная победа заветов русской классики над формализмом, то есть русским модернизмом. Который, будучи пресечен на взлете, давно получил и посейчас длящийся реванш.
Н. Г. Чернышевский
Об отношениях модернизма с реализмом, и шире – о тектонической трещине между литературой до «Кафки-Джойса-и-Пруста» и литературой после «Кафки-Джойса-и-Пруста» приглашает поразмыслить и опубликованный под рубрикой «Опыты» опыт Сергея Солоуха «Педагогическая проза». Как обнаружил автор и до сего времени не ведали мы, типологически постмодернистский метод не показывать, что происходит с героями, но рассказывать о том, что с ними происходит, то есть комментировать повествование вместо того, чтобы повествовать, впервые применил вовсе не Милан Кундера в романе «Жизнь не здесь», а Николай Гаврилович Чернышевский в романе…
Шутка шуткой, но не задуматься ли о том, почему, собственно, мы считаем для себя обязательным преодолевать всяческие искусственные бугры и колдобины экспериментальной прозы XX – XXI веков, при этом не желая прощать неудобоваримость чтения литературе эпохи до эксперимента и формального поиска. В первом случае считаем скуку при чтении испытующим нас барьером, который необходимо взять, а во втором – довлеющей причиной, чтобы оставить текст «историкам и литературоведам».
Мои рассуждения можно и, наверное, нужно принимать всерьез не более, чем антре Сергея Солоуха. Впрочем, если озорство маскирует ненавязчивую попытку, с заведомо абсурдным посылом, ниспровергнуть давно не оспаривавшийся авторитет, то не следует ли аплодировать еще громче?..

Анатолий Гаврилов, Павел Елохин
Подборка рассказов Анатолия Гаврилова и Павла Елохина «Мир на крыше» в блоке прозы нынешнего номера выделяется прежде всего самим двойным авторством, что уже случай хитрый. Еще хитрее секрет подборки – ее внутренняя динамика, очевидная лишь по прочтении всего цикла, именно что цикла. Штриховая графика «Берлинской флейты» и «Вопля впередсмотрящего» его лишь открывает, а дальше словесный массив медленно, но верно «раздувается», распространяется в ширь сюжетной конкретики и глубь (относительную) психологии, вскоре обгоняя по этим показателям прежние, единолично написанные рассказы Анатолия Гаврилова, отличающиеся от его же крупного формата относительной опять же традиционностью. Как если бы тонко проведенная тушью линия расплывалась в пятно. А затем пятно начинает стремительно и причудливо менять очертания, «дневная» будничность уступает сновиденному сумбуру, не столько алогичному, сколько подчиненному логике сна; пространство теряется в диалогах персонажей, сами персонажи – в своих репликах… Но к последнему рассказу повествование входит в берега, логика вытягивается по струнке, возвращая обыденности обыденность. Как в пластилиновой анимации, «минималистический» комок развертывается вязким безумствующим тестом, и наконец словно кто-то тихо и внятно произносит: «Хватит», запуская обратный процесс – втягивания, замирающего на форме скромно-узнаваемой.
Но, под каким бы углом ни преломлялась это узнаваемость в каждом отдельном рассказе, весь цикл снизан на одну леску подспудно томящей героев печали существования и жажды заполнить «дневную» пустоту. Хоть чем, хоть как, в меру своей скудости.

Владимир Данихнов
Пример письма насколько это возможно иного, остро-гротескного, сжатого, – рассказ Владимира Данихнова «Роботизация», иного пошиба и герои – прослойка мыслящая, а также митингующая, праздно болтающая в фейсбуке, спивающаяся на празднике гражданской-виртуальной жизни. Только печаль и жажда те же. А финал этой экзистенциальной сатиры (пусть будет так), финал этой «роботизации» пребольно человеческий, с разбиванием остроты о тупую боль, и от нее ни в робота, ни собаку не спастись слишком человекам Данихнова – не жалеющего никого, не жалеющего и злости, из которой, болезненным сжатием, получается лучшая жалость.







 Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост»
Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост» Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год)
Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год) 8 июня Александр Лазарев
8 июня Александр Лазарев
