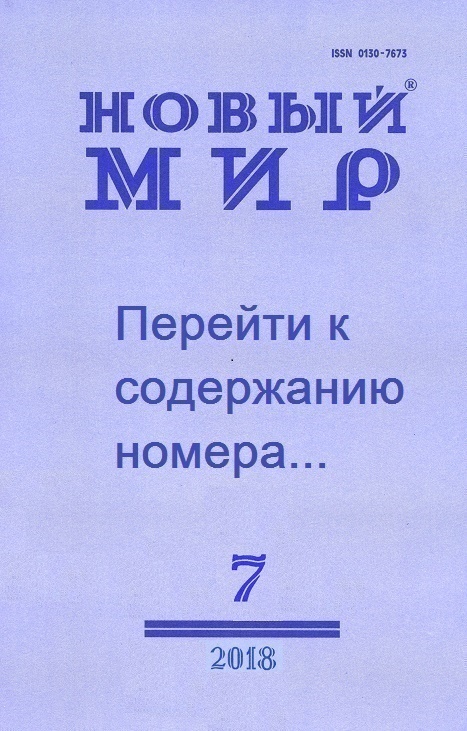
Выбор редакции
Проекты
Марианна Ионова о публикациях «Нового мира», 2017, № 9: о романе Игоря Вишневецкого «Неизбирательное сродство», статьях Татьяны Касаткиной «Проблема доступа к философии и богословию писателя», Павла Крючкова к 125-летию Константина Паустовского и Александра Мурашова «Филология насилия: поэзия и контекст».

Игорь Вишевецкий
В сентябрьском номере публикуется роман Игоря Вишневецкого «Неизбирательное сродство», с подзаголовком «Повесть из 1835 года» (фрагмент романа размещен на сайте). Здесь я не могу обойтись без небольшой преамбулы.
Современного исторического романа, действие которого происходит в викторианскую эпоху, сегодня не существует – зато прекрасно себя чувствует подменивший его собой так называемый неовикторианский роман. Тексты, так или иначе обращенные к прошлому, я предлагаю делить на исторические (романы, повести), «костюмные» и стилизации. Именно так: говоря «стилизация», я имею в виду нечто, далеко превосходящее вопрос о стиле. Для автора, пишущего исторический роман, важны события прошлого как исток событий настоящего, либо как аллюзия на события настоящего. Пишущего «костюмный» роман прошлое интересует поверхностно-эстетически; герои в декорациях той или иной эпохи проживают у него драмы, как он верит, универсальные. «Костюмный» роман – незакатный мейнстрим, перечень же его высоких образцов включает и гибриды с романом историческим, среди которых не что-нибудь, а «Война и мир».
И наконец, стилизация. Автора, стилизующего свой текст под текст другой эпохи, события тоже не интересуют, но по-другому: ему важно и интересно сталкивать мыслительные, поведенческие, эстетические паттерны, за одни из которых «отвечают» его живущие в XIX веке герои, а за другие – его живущие сейчас читатели. И он сам. Роман-стилизация – это… игра! – подсказывают мне, и велик соблазн считать, что вот она, суть, схвачена, но я с трудом представляю, чтобы качественный текст даже среднего романного объема вытянуло как единственная интенция наслаждение пишущего тотальным приемом (и вряд ли хоть один значительный постмодернистский текст сводится к игре). Нет, стилизация – это и аттракцион, но и лабораторный опыт, ради которого самый далекий от академической науки беллетрист становится на время антропологом или культурологом.
От второго и третьего типов первый, собственно исторический роман, отличается присутствие исторической проблематики. История активна, она – в главной роли. Поскольку на российской почве иначе, как в пространстве художественного вымысла, не получается разбираться с последствиями событий, то и история постоянно сочится из щелей, периодически затопляя короткие списки премий.
«Повесть из 1835 года» начинается и почти до самого конца продолжается как роман-стилизация (стилизаторское мастерство Вишневецкого хочется, без всяких дотошных сверок, объявить уникальным для сегодняшней русскоязычной прозы), а завершается как роман исторический. Формально «Неизбирательное сродство», с его мотивом ожившего мертвеца или искусственного возвращения к жизни, стилизовано под фантасмагорическую повесть позднего романтизма (так что кивок в сторону Гете выглядит не особо удачным ходом). В тот зазор между автором «физическим» и автором-письмом, зазор, который остается всегда, даже если стилизатор стремится уподобиться копиисту, нужный, чтобы две модели смогли «встретиться взглядами», Игорь Вишневецкий закачивает свои смыслы. Смысл, метафорой которого взято фантастическое допущение, – бесконечное вместо вечного. Об этом роман, имеющий в основании своем метафору. Вечный город (лучшие страницы – описание «гоголевского», по времени, Рима) и дурная бесконечность вновь обретенного бытия. Да и сам способ подачи: ведь что, как не зомби, представляет собой стилизация?.. «Мертвые души», живые мертвецы – не отпускающий XIX век, который никак не станет историей, никак не упокоится. Это про Россию, про ее участь. Бесконечно не умирающая российская матрица противопоставлена вечно живой европейской цивилизации – или та в свою очередь лишь поддерживает иллюзию вечности?..

Татьяна Касаткина
Текст, выступающий метафорой того, «что хотел сказать автор», настигает нас в тематически неожиданном материале под рубрикой «Философия. История. Политика» – статье Татьяны Касаткиной «Проблема доступа к философии и богословию писателя», с подзаголовком «Неизбежность филологии: Аполлон и мышь в «Записках из подполья» Ф. М. Достоевского». Прежде всего это филологический квест (с поворотами, на которых слегка захватывает дух), призванный увести философа – или богослова – вглубь от поверхности, на которую проецируются движущиеся тени. Философия и богословие Достоевского – не в том, что озвучивают герои. То, что они произносят, и это касается любого автора, принадлежит миру идей конкретного произведения. Принадлежит тексту, не автору. Не ртами героев говорит писатель, а текстом, всем его целым. В этом сущность художественного произведения как такового, поскольку оно есть единство, даже единица. Произведение – слово. Текст – высказывание. Филолог занимается миром произведения, в частности, словами героев. Философ – миром автора как его словом. Очевиднейшие, казалось бы, вещи, на которые, и на непростоту которых, открывает глаза статья Татьяны Касаткиной.

Павел Крючков
Очередной выпуск «Детского чтения с Павлом Крючковым» посвящен Константину Паустовскому, 125-летие которого отмечается в этом году. Павел Крючков с любованием вспоминает «классику» написанного Паустовским для детей, однако до начала разговора об этой, немаленькой части наследия приводит две цитаты из дневника писателей, напрямую не относящиеся к теме. В частности: «Бог прислал меня на землю с даром красок. Поэтому я художник. Я остро чувствую краски и настроения дней, хотя близорук. И в людях я чувствую краски их души. <…> Мысль, философствование, как игра идей, как шахматы, как комбинации вдумываний, из которых рождаются гениальные прозрения, – мне чужды». В предыдущем обзоре я писала о Юрии Казакове, тоже, кстати, юбиляре (90 лет); об апологии частного и одинокого между строк его прозы. Апологии, которая переживет и некоторые строки, потому что ей необходимо дожить до того читателя, чей приход сегодняшняя литературная «злоба дня» отодвигает планомерно, до читателя, который ждет не только или вовсе не игры идей и комбинаций вдумываний, а красок. В прозе нужны не только мыслители и гроссмейстеры, но и художники. (Вновь очевиднейшая вещь? А если взглянуть на пресловутые короткие списки?..) Нужен тот, кто избавлен от повинности говорить за всю Одессу – или по собственному свободному выбору преодолел это искушение. Тот, кто от себя высказывается без лицеприятия и страха и вообще идет против течения, как властно-начальственного, так и не в меньшей мере «цехового», средового, но свое искусство предоставляет чему-то, что параллельно словам и все же должно быть переведено на словесный язык. Выигрывает от этого в конечном счете язык перевода.
Александр Мурашов, в своей статье «Филология насилия: поэзия и контекст» рассматривая, как русская поэзия работает с темами насилия, страдания и сострадания, попутно выявляет определяющую для современной русской поэзии черту. Но сначала противопоставляет коллективное страдание (можно сказать, что жертва здесь будет пониматься как тот, кто претерпевает насилие) и страдание индивида, героя (тут жертва понимается трагически – как приносимая во имя). Так вот, второе современная поэзия именно что приносит в жертву первому. Дегероизация, деэстетизация и как итог – трагикомедия. Все мы жертвы, но об этом больше не рекомендуется говорить слишком серьезно, или «пафосно». И это, на мой взгляд, определяющая черта не только поэзии, и не только поэзии русскоязычной, а западной культуры: нас все время призывают сострадать жертвам, солидаризоваться с ними, тону при этом полагается быть заниженным, потому что страданию, а значит, страдающему отказано в исключительности. И если задуматься, то единственный одобряемый объединитель людей в западном обществе и с точки зрения западного общества (к которому, как к пост-христианскому, принадлежим и мы), – это взаимное сострадание. Дискриминация, болезнь, теракт, беженство постоянно тасуют страдающих и сострадающих. Дополняя сказанное Александром Мурашовым, потому в современной лирике субъект, хор и зрители утратили различие и индивид больше не может идентифицироваться с трагическим субъектом, что современная культура (куда входят и социальные отношения), помимо прочих пост- и «посттравматическая», транслирует: всем жалко каждого, каждому жалко всех.







 Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост»
Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост» Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год)
Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год) 8 июня Александр Лазарев
8 июня Александр Лазарев
