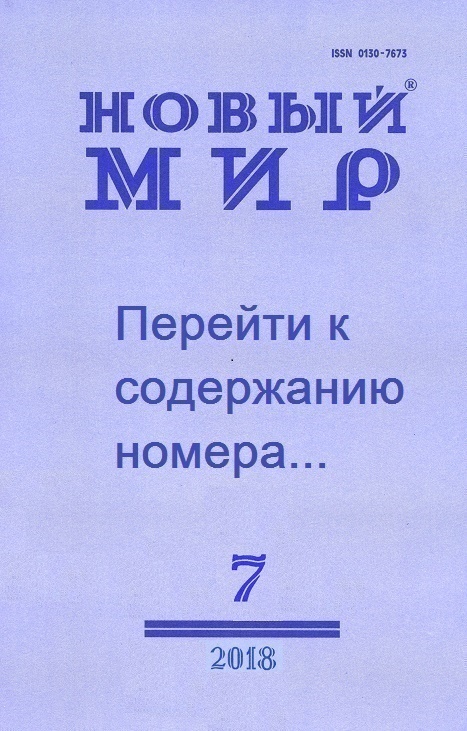
Выбор редакции
Проекты
Марианна Ионова о «Новом мире» 2017, № 11: о фрагменте романа Романа Шмаракова «Автопортрет с устрицей в кармане», об эссе Евгения Чижова «Война и мыр» (о Льве Толстом и Данииле Хармсе), о статье Николая Вахтина «Арктика: слово и дело».
Роман Шмараков. ФБ Романа Шмаракова
Почти в каждом номере любого журнала есть текст-фаворит. Но куда как редко это фаворит не назначен, а обнаружил свое первенство уже оказавшись среди равных. В ноябрьском номере «Нового мира» таковым мне представляется фрагмент романа Романа (романа романа, воистину) Шмаракова «Автопортрет с устрицей в кармане». Не быть романом романом роман Шмаракова не может заведомо: в стилизаторском мастерстве у этого автора нет соперников. Перед нами чистое искусство – хотелось продолжить «прозы», но прозы ли? Тексты Шмаракова принадлежат тому, крайне узкому в литературе на любом языке, а в литературе русскоязычной просто-таки нитевидно узкому сегменту словесного искусства, который, формально подпадая под определение художественной прозы, по сути – филологический театр, интерактивный музей с ожившими экспонатами, бумажное действо. Вот один из персонажей интерлюдии, между прочим, волк с висящей на стене картины, начинает рассказывать историю, и мы, улыбаясь узнаванию, вспоминаем «раннесредневековый» венок новелл Шмаракова «Книга скворцов». Однако здесь нарратив внутри нарратива означает смену стилистического кода: из эдвардианской Англии классического британского детектива мы непринужденно переходим во французский XVII век… Фрагмент обрывается, однако читатель легко вообразит бесконечность этих влекущих анфилад, и если уж держаться метафоры театра, то главная роль здесь, разумеется, у языка, а не у сюжета. С упоминанием языка на язык просится «постмодернизм», но в отличие от постмодернистов Шмараков не снабжает свой мир под колпаком программой медленного саморазрушения – его мир счастливо герметичен. Это высокое развлечение для избранного, но разомкнутого круга. Игра, безусловно. Игра о литературе.
Евгений Чижов. Википедия
Под рубрикой «Опыты» опубликовано эссе Евгения Чижова «Война и мыр» с подзаголовком «Лев Толстой и Даниил Хармс». При таком эксцентрическом на первый взгляд выборе фигурантов читатель ждет уж провокации, ироничного тона, но тон разговора задается совсем другой, и оправдывает он себя по ходу текста все более. Целенаправленных богоискателей среди русских литераторов, если задуматься, не столь много, и Евгений Чижов, сополагая религиозную мысль обериутов, а конкретно Хармса, с одной стороны и Толстого с другой, показывает, что линия если не преемства, то родства прочерчивается к обериутам, действительно, от Толстого скорее, чем, скажем, от Достоевского, несмотря на всех лебядкинских тараканов. И Толстой, и Хармс были аутсайдерами, да что там – Пьер Безухов и Даниил Хармс: аутсайдерство обоих достигает пика выражения в условиях войны, для Хармса ставших роковыми. И Хармсу, и Толстому дано было откровение абсурда, абсурдность «обычной жизни» стала темой, очень личной, и одного и другого. Чижов приводит вполне обериутские, с его точки зрения, эпизоды «Войны и мира», которые, кстати, работают как очень сильный аргумент за то, чтобы не Жарри, а Льва Толстого считать первопроходцем абсурда в литературе. Но сопоставить и явить параллели без какой-либо сверхзадачи будет только занимательным литературоведческим фокусом, и Чижов подводит черту: в практическом спасении от абсурда Хармс может дать читателю больше, чем Толстой. И это тоже не провокация, не попытка подорвать «иерархию», а уважительно-спокойный (что можно сказать о тональности всего текста) вывод, за которым стоит видение литературы как целого, образуемого множеством частных стратегий и поэтик, а индивидуального творчества, включая творчество мысли, философию, – как участия в едином столетия длящемся «мозговом штурме», пусть каждый участник и отвечает на вопрос, заданный самому себе.
Парусно-паровой барк «Вега», первым пошел по Северному морскому пути 1878—1879. Википедия
Статья Николая Вахтина «Арктика: слово и дело» (рубрика «Мир науки») на самом деле посвящена отрасли не естественной и тем более не технической, а гуманитарной. Она – о вымысле, над которым можно облиться слезами, в том числе слезами гордости за отечество. О реальности, создаваемой словами – и отвоевывающей жизненное пространство у реальности, создаваемой делами. В фантомной, риторической реальности, только выходящей из средств массовой информации, что советских, что современных российских, а далее начинающей самостоятельное бытие, происходит последовательное, неизменно успешное сначала советское, затем российское освоение Арктики. Николай Вахтин, помимо и прежде того, что специалист по Крайнему Северу, – филолог, как и Роман Шмараков. Художник, сотворив собственный «мыр», может уйти туда – от одновременно слишком предсказуемого и пугающе непредсказуемого мира – один; но если художник настоящий, тогда и его «мыр» рано или поздно обретет качество некоторой настоящести – для других. Правда, он утратит автономность и самозамкнутость и присоединится к постоянно меняющейся вселенной, готовой к диалогу с каждым новым читателем, будь то профессиональный филолог или книголюбивый подросток, и абсолютно беззащитной перед его, читателя, «произволом» – чем и жива. Однако вымысел, о котором идет речь в статье Николая Вахтина, не зовет к себе, а вторгается на чужую территорию, стремясь «освоить» сознание как можно большего числа реципиентов и в конечном счете (чего никогда не хочет литература) лишить их выбора, на почве какого мира остаться: мира слов или мира дел.







 Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост»
Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост» Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год)
Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год) 8 июня Александр Лазарев
8 июня Александр Лазарев
