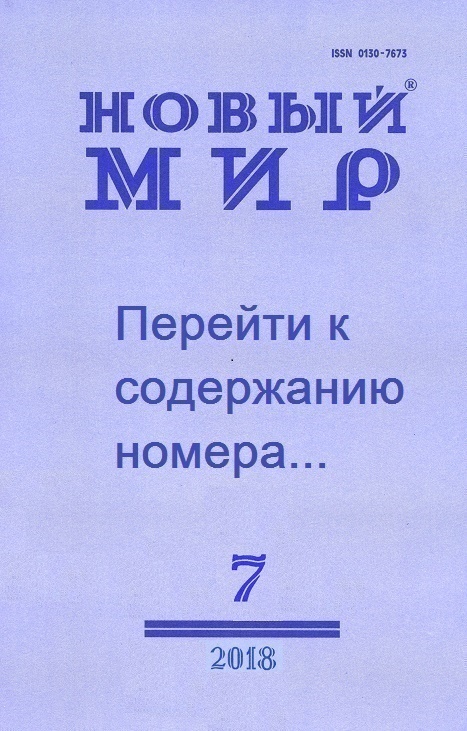
Выбор редакции
Проекты
Марианна Ионова о «Новом мире» 2017, № 12: о эссе Владимира Варавы «Седьмой день Сизифа», о мемуарах Бориса Меньшагина, о рассказах номера.
 Владимир Варава
Владимир Варава
Назвать эссе Владимира Варавы «Седьмой день Сизифа» текстом-«фаворитом» (какового звания удостоилась одна из публикаций ноябрьского номера в предыдущем обзоре) язык не повернется, хотя по гамбургскому счету, который журнальные материалы всегда ведут между собой, именно оно «держит» номер. Не потому, что остальное литературно хуже, а потому, что эта оригинальная – то есть не рецепция, не анализ чужого высказывания – философская работа развертывает все богатство эссеистики как жанра, русскоязычными авторами так досадно редко поднимаемое с глубины, на которой залегает оно 90% своего объема, только 10% выставляя наружу, для путевых заметок и прочего «я»-жанра. (И 90% русскоязычных авторов, кажется, полагают, что эссеистика – это по определению «я на фоне пейзажа, текста, идеи и т. д.».)
Программное эссе Камю автор «Седьмого дня…» не упоминает (по крайней мере в опубликованном – впрочем, самодостаточном – фрагменте готовящейся к выходу книги), хотя этот Сизиф очевиднейшим образом ведет диалог с тем. Этот Сизиф – не героический «абсурдный человек», и его труд – не вызов бессмысленному существованию, а само существование. Но в участи Сизифа его спасение: «самая лучшая пора» наших дней – «труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим» (Пс. 89:10). Скука же, как разрыв в плотной ткани целеполаганий и действий, дает увидеть ужас бытия, проникнуться ненужностью обступившего нас мира, бесплодностью времени. Как быть Сизифу, однажды отвлекшемуся от своего сизифова труда и заметившему самое время, самое существование, его ужасающую пустоту? Осознать, что время для него тянется в ожидании. Что существование и есть ожидание, ожидание Бога, ожидание Его здесь, в любой миг, и после, по смерти, ожидание чего-то/Кого-то, тщетное внутри времени и не покидающее до конца, – осознать, то есть осмыслить, то есть заполнить пустоту. Владимир Варава не приводит знаменитые слова апостола об «осуществлении ожидаемого и уверенности в невидимом» (Евр. 11:1), но они ложатся на его мысль. Взамен «тихой радости», которую Сизиф Камю находит в том, что лишь ему принадлежит его судьба, Сизифу Варавы доступна надежда, которую он обретает в ожидании.
Борис Меньшагин
«Большая» проза номера («образующая» его и по значимости, наряду с текстом Варавы) – фрагмент из воспоминаний Бориса Меньшагина, советского юриста и «коллаборациониста», посвященный его деятельности на посту бургомистра оккупированного Смоленска в 1941 – 1944 гг. Едва ли какая-либо сторона военной действительности более подверглась идеологическому «фотошопу» в официальном дискурсе о Великой Отечественной, чем жизнь «под немцами». Прежде всего ч/б, и никаких полутонов; укрупнены фигуры партизан-подпольщиков и полицаев, остальное как можно менее четко, и эта размытость спасительна для глаза, подсознательно видящего Вторую Мировую, особенно на советской территории, Армагеддоном, битвой добра со злом. Потому любой материал на эту тему «из первых уст» (См. также «Оккупацию» Юрия Ионова в «Новом мире» № 8 за год 2015) смещает фокус безжалостно, вплоть до потери почвы под ногами.
…Адвоката Меньшагина немецкое вторжение застало в его родном Смоленске, где он был на тот известным защитником, сумевшим добиться отмены нескольких смертных приговоров по сфабрикованным «вредительским» делам. Что говорит о предустановке быть в любых условиях верным собственной системе координат, моральных и профессиональных, о внутренней независимости. Защищавший обвиняемых по политическим статьям Меньшагин слишком ясно видел сущность этих процессов, слишком близко наблюдал механизм сталинского террора, чтобы отчаянно уклоняться от сотрудничества с оккупантами. Меньшагина назначили бургомистром по большому счету впопыхах, но тот отнесся к своим обязанностям, в согласии с упомянутыми качествами, ответственно, а свои обязанности Меньшагин понимал привычно для себя как защиту – защиту интересов местного населения. В отстаивании этих интересов он не боялся идти на конфронтацию с немецким начальством. Проводя указания сверху, старался в меру своих возможностей помогать конкретным людям. Среди прочего Меньшагин снабжает поддельными паспортами, тем самым спасая от смерти, пожилую еврейскую чету; он ежемесячно, в обход правил, выдает гетто тонну соли, а также разрешает не платить указанный дополнительный налог… Больше ничего он для евреев сделать не может. Здесь мы с высоты наших знаний о Праведниках мира – поляках, белорусах, литовцах, французах и т. д., рискуя жизнью своей и своих семей прятавших евреев, – спрашиваем: не может или не хочет? Вот только вправе ли мы укорять Меньшагина за то, что свой не профессиональный, а человеческий долг он определил так, а не иначе, что на тех, а не на других направил отмеренный ему запас мужества и сострадания? То есть, в худших советских традициях, требовать подвига. Нам кажется, что ограничиться облегчением участи русских «маловато». Но для решимости спасать евреев от гибели под носом у немецких чинов маловато не быть антисемитом, маловато ужасаться гитлеровскому «решению еврейского вопроса», маловато иметь чувство справедливости и быть порядочным человеком. Мы помним, что христианин призван к максимуму – к совершенству, святости, и не мог не помнить об этом член Церкви Меньшагин (правда, попытка самоубийства накануне входа в Смоленск советской армии вынуждает приписать дореволюционному стандарту внешнего благочестия то, что могло иметь другую основу). Однако слова о душе, положенной за други своя, Господь обращает к каждому и предоставляет совести каждого. Нам хотелось бы, чтобы по первому же зову обстоятельств порядочный человек становился праведником, всегда, без исключения; чтобы подвиг вменял себе в долг; нам хочется быть уверенными, что сами мы повели бы себя как Оскар Шиндлер, а не как Борис Меньшагин. Но такой уверенности у нас нет и не будет никогда.
И то правда: невыигрышно для образа Меньшагина описание экскурсионной поездки по Германии в составе делегации муниципальных работников. Гостям показывают оперетту в городском театре – и завод, где работают остарбайтеры; их Меньшагин искренне жалеет, но не умалчивает ни какую оперетту давали, ни чем кормили на официальных приемах. Пожалуй, лишь этими страницами объясним едкий тон Павла Поляна, автора предисловия и публикатора. В свою очередь тон Меньшагина можно объяснить так: первый вариант воспоминаний отобрало у него перед выпуском на волю начальство Владимирской тюрьмы, где Меньшагин полностью отбыл двадцатипятилетний срок за измену Родине; ко второму он приступил уже стариком. И поддался соблазну вновь прикоснуться к впечатлениям той поездки, как почти безмятежной интермедии внутри долгой, во многих местах сломанной жизни; впечатлениям, среди которых – готическая архитектура старинных немецких городов, уже приговоренная.
Что касается подборки малой прозы Андрея Резцова «Пармезан с гречкой», то, чуть видоизменив, повторю сказанное в обзоре майского номера за 2016 год по поводу его же цикла рассказов «О некоторых шершавостях женщин»: чистый абсурд не может не быть чистым юмором, а чистый юмор – чистым искусством.
Подборка рассказов Андрея Краснящих «Кафедра, кафедра, Элиза» как бы нарочно являет насколько возможно иное лицо смешного: это сатирический гротеск, щедринский не по форме, но по духу. Последний раз в «Новом мире» не оставил камня на камне от кастовой солидарности интеллигенции Владимир Данихнов (№7 за текущий год), но смех Андрея Краснящих суше, сдержаннее и потому злее.
Кодой к рассказам Краснящих неожиданно воспринимается рассказ Владимира Скребицкого «Незабвенные восьмидесятые», пример совсем иной литературы, реалистическим инструментарием и, я бы сказала, непритязательно воссоздающий специфический эпизод советской жизни – собеседование в райкоме перед загранпоездкой. «Незабвенное» подсвечивает сегодняшнее, впрочем, больше говоря о непреходящем в человеческой природе, чем о неизжитом в истории.







 Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост»
Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост» Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год)
Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год) 8 июня Александр Лазарев
8 июня Александр Лазарев
