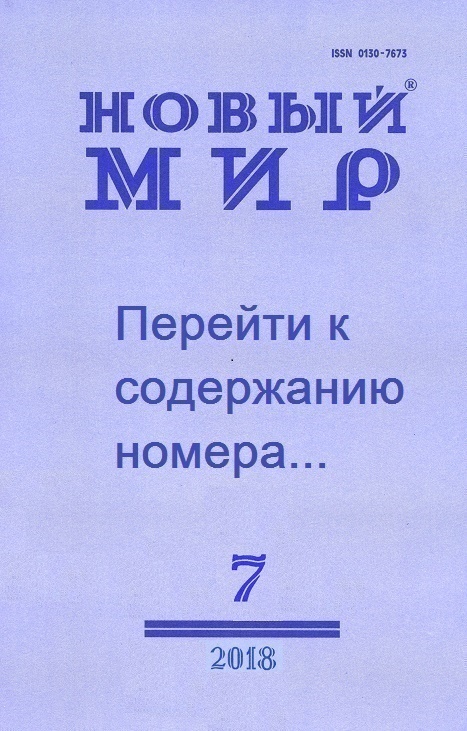
Выбор редакции
Проекты
Марианна Ионова о публикациях «Нового мира», 2018, № 4: эссеистике Михаила Немцева и прозе Бориса Земцова.
Михаил Немцев
Все то время, а оно примерно совпадает с отчетом Нового времени, что существуют привычные нам роман, рассказ, эссе и повесть (не одноименные им в истории литературы прообразы), – все это время прозаик, о чем бы ни говорил, говорит о себе. Как эссенция, он распределен в интеллектуальной и эмоциональной жизни героев, в пространстве повествования, и ничего вне его внутри этого пространства нет и быть не может. Трюизм. Очевидность. И если еще в XIX веке этот более и менее длинный трос личного, биографического был предметом «разоблачения» и вообще обсуждения, а часто специального проговаривания самим автором, то теперь воспринимается как нечто не просто законное, но априорное. Говорить о себе можно опосредованно, с помощью подставных фигур – героев, в той или иной степени взятых из жизни, списанных с натуры, как сказали бы полтора столетия назад, а можно непосредственно, декларируя перед читателем эту непосредственность личного опыта; насколько досочиненного – другой вопрос, но, так или иначе, декларируемого. Почти вся, за одним исключением, проза нынешнего номера выносит к читателю личный опыт автора или то, что таковым заявлено. Николай Фоменко выносит даже в название рассказа – «Как я был волонтером». Но остановлюсь я на двух других текстах: «Вперед, медленно поднимаясь» Михаила Немцева и «Сочельник строгого режима» Бориса Земцова, поскольку они являют собой два противоположных способа «личного присутствия» автора, опытной прожитости того, о чем повествуется.
Важно, что «личное» не исключает «лица» как одного из лиц автора, которое тот именно сейчас обратил к читателю. Неискренность здесь не при чем; это вопрос о том, в каком качестве, из какой части своего опыта автор говорит. Михаил Немцев своей прозы – системы главок-эссе – «философ». Он не знакомит читателя с плодами своей рефлексии, но само лирическое начало текста, то есть само проживание жизни как оно носителем этого начала в тексте воссоздается, оказывается у него рефлексией, сплошной мыслью по поводу. Философской пробе подвергаются такие явления бытия, как грусть, счастье, невежество, любовные отношения, политическая тирания... Разнородные на первый взгляд аспекты, но не на взгляд философа, который всегда и, главное, сразу глядит вторым взглядом. Эти эссе все-таки собрание скорее монохромных главок; Немцев фокусирует свой второй взгляд на каждом из аспектов бытия-целого не столько ради того, чтобы существо, допустим, грусти было хорошенько рассмотрено и предстало уясненным, сколько для того, чтобы проблематизацией существа той же грусти размыть ясность целого. Взгляд философа тем и отличается от взгляда обывателя (никакого шовинизма: оба могут быть брошены одним и тем же человеком в различные мгновения жизни), что первый устраняет ясность, а не привносит. Как только забрезжил некий положительный вывод (например, о том, что есть Радость), философ увертывается, отворачивается: либо уж ясно видеть частности, либо охватывать целое, о котором заведомо нельзя ничего утверждать, а только целое философа и интересует (на чей стиль размышлять, то есть писать размышление, изрядно повлиял Владимир Бибихин, бесстрашно, учитывая вышесказанное, упоминаемый в тексте). Размышление приводит к неожиданной и, возможно, неприятной для читателя, но ожидаемой и любимой всяким философом незавершенности, принципиальной незавершимости познавания.
Борис Земцов
Борис Земцов своего рассказа – «заключенный», с которым читатель разделяет поездку в столыпинском вагоне к месту отбыванию срока и одновременно подготовку одного эпизода, одного кульминационного события. Праздник Крещения Господня застает героя-автора по пути на зону, и к человеку невоцерковленному, православному, считай, номинально, внезапно приходит потребность как-то отпраздновать, хотя бы чем-то отметить, пометить его. В действии, ритуальном и полуосмысленном, – взаимном обливании водой с другим заключенным, в как бы повторном крещении герой-автор прикасается к Божественной реальности (то есть происходит настоящее Богоявление). Прикасается не мистически, не через экстаз или откровение, а через непроизвольную телесную память о других водах: воде, окатившей ребенка, которого купала мать, и затем, гораздо позже, воде, окатившей паломника в Иордане – двух людей, которыми был когда-то теперешний зэк. Это и совсем разные воды, «непереходимые» для трех человек, носящих одно им, но более как будто ничем не связанных, и одна вода, смывающая необратимость превращения мальчика во взрослого, респектабельного члена общества – в парию, «свободного» – в несвободного. Если у Немцева рефлексия, мысль, прощупывающая бытие, ищет правду целого, то у Земцова правда целого, целого-личности, даруется (по)мимо интеллектуальных усилий и одномоментно. Вам такое приведение к общему знаменателю двух текстов, совершенно разных жанрово, типологически, кажется натяжкой и «скандалом»? А вот еще: замечательно, что у Земцова, как и у Немцева, итог, место прощания с читателем – отказ что-либо утверждать, неясность, принципиальная незавершимость пути, неисповедимость Промысла. Это и есть прикосновение к реальности, и само прикосновение, и его результат – признать, что не знаешь. Философом движет желание коснуться того, что на самом деле, не-философ может позволить тому, что на самом деле, коснуться его, и оба желания – желание коснуться и желание принять касание – оборачиваются желанием замолчать. Не молчанием восхищенного мистика, а просто не судить, никого и ни о чем, то есть не рассуждать. Остановлюсь здесь и я.







 Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост»
Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост» Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год)
Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год) 8 июня Александр Лазарев
8 июня Александр Лазарев
