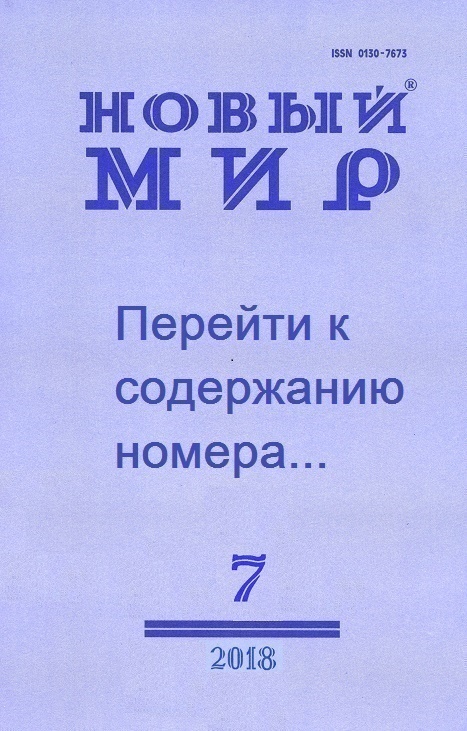
Выбор редакции
Проекты
Марианна Ионова о публикациях «Нового мира», 2018, № 5: повести Алексея Музычкина «Арнольд Лейн», статье Александра Мурашова «Безразличие к поэзии», статье Сергея Нефедова «Красное знамя Иисуса», эссе Леонида Карасева «Занимательная эстетика. Фрагменты».
Обложка журнала «Атенеум»
Повесть Алексея Музычкина «Арнольд Лейн» выдает себя за архивную публикацию относящихся к XVIII веку писем к матери некоего возомнившего себя писателем и с ума сходящего армейского писаря Лейна, «случайно обнаруженных» и переведенных автором… открытия. При всей обкатанности приема мистификации понарошку в западной литературе прошлого столетия (те же Набоков, Борхес), подобные игры на русском еще не примелькались. Классическая для литературы постмодернизма проблематика (неравная схватка писателя, претендующего на создание чего-то качественно нового, небывшего, высказать то, чего никто прежде не говорил, с языком), правда, вызывает дежа вю, да и интертекстуальность, за которую отвечает «матушка» Поприщина, не говоря уже о герое песни «Пинк Флойд», смотрится немного натужно. Впрочем, в сторону придирки, замечательно другое – перед нами двойная «фальсификация»: письма писаря XVIII века с большой долей вероятия созданы главным редактором журнала «Атенеум» в первой половине века следующего. И для меня лично повесть Музычкина ценна не столько повторением задов постмодернистской словесности, сколько точным и тонким подделыванием поэтики романтизма (что и изобличает «фальсификатора» 10-х годов XIX века!). Синестезия, оживающая в виде антропоморфных существ природа – вряд ли Алексей Музычкин намеренно воспроизводил все признаки романтической фантасмагории, например, у йенских романтиков, скрупулезно перечисленные Веселовским (см. его «В. А. Жуковский. Поэзия чувства и “сердечного воображения”»), но совпадение приметное. Хотя… неужели смог бы редактор «Атенеума» подделать дух недавно минувшей и потому малоинтересной ему последней трети XVIII века с ее мистическими поисками, для широкого читателя воплощенными в Сведенборге (которого «публикатор» упоминает) и, естественно, в Блэйке, чьим вовсе не случайным соплеменником является злосчастный писарь. Так, опознавая эстетику раннего романтизма в болезненных видениях адресанта, и надо читать повесть об Арнольде Лейне – на фоне эпохи, к которой ее отнес «переводчик и публикатор». То есть не как «постмодернистское» махание кулаками после драки, реплику вчерашнего, а как упражнение в позавчерашнем. Как оммаж самим темам Художника – безумца для мудрости века сего и творчества – тщетной попытки обновления мира, впервые явленным у романтиков.
Реконструкция резиденции вождя тайпинов Хун Сюцюаня
Под рубрикой «Философия. История. Политика» опубликовано эссе Сергея Нефедова «Красное знамя Иисуса». История взлета и падения тайпинов (напомню: Китай, XIX век), изложенная коротко, но не вкратце, – это история о том, как семя попало на недостаточно взрыхленную, а главное, зараженную почву; как христианский коммунизм с поистине китайской методичностью (хотя чем «хуже» показала себя Мюнстерская коммуна?..), за какие-то несколько лет перерождается в восточную деспотию. Любопытно, что, не скрывая едкой горечи по поводу описываемого, сам автор транслирует марксистский взгляд на христианство – как на движение бедных против богатых прежде всего. Однако часть аудитории, к которой принадлежу и я, прочитав эссе и поначалу испытывав некоторое замешательство перед категоричностью обобщений, останется с двумя цитатами, примирить которые вот уже сколько веков не помогает до конца никакая экзегеза. «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее» (Мф. 10:34 – 35) и «…возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26:52).
В статье «Безразличие к поэзии» Александр Мурашов поднимает тему, с некоторых пор, как представляется, негласно объявленную изжитой, преодоленной (а именно с тех пор, как современная поэзия «изжила» и «преодолела» читателя-непоэта, который еще лет тридцать назад любил стихи и искал, что бы почитать нового, как теперь ищут, что бы почитать нового из крупной – какой смысл ни вложи – прозы). Тему понимания поэзии, прежде всего современной, читателем, не умеющим, да и не желающим подвергать «темные» стихи толковательному распутыванию (даже если он, как дипломированный филолог, таковой методикой владеет), но исходящим из своего, читательского, права на непосредственное восприятие. Под современной поэзией подразумеваются не вообще строчки в столбик, которые сочиняются сегодня и своевременно публикуются, но поэтические тексты, что движутся по руслу, проложенному модернистской революцией на заре прошлого века, и «уходят» от нее все дальше. То есть отталкиваются от модернизма так же, как тот некогда отталкивался от многовековых наработок, казавшихся ему не отвечающими антропологической «повестке дня». И если даже к литературному модернизму русскоязычный читатель, и даже читатель профессиональный – критик, до сих пор привыкает через усилие, то что говорить о поэзии, для которой и модернизм отмечен тавром «человеческого, слишком человеческого».
Статья Александра Мурашова построена как апологетика. От обвинения в невнятности и, следовательно, непоэтичности, прозвучавшего с позиции читателя, способного, но не хотящего становиться исследователем-интерпретатором, Мурашов защищает творчество Евгении Сусловой, Дениса Ларионова и Кирилла Корчагина. Фактически же он защищает определенный тип поэзии, интеллектуальной, даже дискурсивной, без установки на самодовлеющий формальный эксперимент, но «трудной» постольку, поскольку об нее разбиваются все обращенные к лирике ожидания-требования, главное из которых – имитировать спонтанность и доверительность передачи душевного опыта. Аргументация защиты не нова, поскольку не новы упреки: 1) где тут лирический герой (с которым поэт соотносит себя, а я – читатель – поэта, попутно на себя его позицию проецируя)?; 2) это совсем не похоже на осмысленную, живую речь. Может показаться, что проблема непонимания «наивным», «отсталым», «непросвещенным» читателем «сложной» поэзии давно исчерпана как повод для профессиональной дискуссии, однако это иллюзия. Мурашов указывает на то, что, будучи обнаружено, кажется и очевидным, и невероятным: текста в ситуации не-чтения или не-прочтения не существует. Там, где нарушена коммуникация между текстом и читателем, расползается слепое пятно. Частное непонимание – не изъян наивного и косного читателя, а провал, постигший и читателя, и поэта, и текст здесь и сейчас. Не потому опять-таки, что плохи стихи, а потому что невозможность для вот этого конкретного читателя сделать их событием своего мира, присвоить итогом имеет то самое вынесенное в название безразличие к поэзии.
Мурашов подсказывает любопытное средство против такого непонимания и, как следствие, безразличия. Он предлагает аналогию между восприятием современной поэзии и восприятием словесности, к которой неприложимы конвенции оценивания, «чужой» – архаичной, инокультурной. Надо сначала признать за непонятностью право на существование, разрешить себе не понимать – чтобы попытаться увидеть красоту недоступного пониманию. Мурашов берет примером расшифровку древних письмен, но, мне кажется, читатель не расшифровывает недоступное, а, как зритель на галерке, ищет точку, с которой ему открывается наиболее полный вид, точку, из которой он видит хоть что-то. То есть не пробивается к смыслу текста, но ищет такое положение в пространстве, где дистанция между ним и текстом минимальна.
«Человек, который смеется» – роман Виктора Гюго, о котором пишет Леонид Карасев
«Занимательная эстетика» Леонида Карасева (первая часть которой публиковалась в № 6 «Нового мира» за 2015 год), под рубрикой «Опыты», приглашает задуматься о том, в какой мере искусственное искусственно, то есть произвольно, подконтрольно творцу, субъекту действия и т. п.? От укорененности чувства формы, чувства гармонии в физиологии человека Леонид Карасев переходит к обусловленности «культурного» «природным», тесноте связи между природами первой и второй, создаваемой человеком для себя, связи, которая никогда не прерывалась, сколько бы мы ни удалялись во времени от первобытного обживания и приручения материальной среды. Телесность, пронизывающая наш духовный мир, – вот тема не только данного эссе, но, пожалуй, основная и сокровенная для Карасева. Не подсознание, пугающее обывателя им самим, где-то глубоко внутри якобы носящим ежесекундно готовый отверзнуться ящик Пандоры, с легкой руки масскульта приобретшее зловеще-величественный флер, но то, что не доходит до сознания по своей как бы незначительности и как бы необязательности, жизнь нашего тела проникает в сферу эстетического, заставляя нас любить одно, бояться другого… А главное, в рассуждениях или, лучше сказать, рассуждении Карасева, в этом добродушно-неторопливом потоке, и мир вымышленный, мир образов, и мир предметов оказываются наполненными таким же несуетным добродушием заведомо родного пространства, где все, что ни возьми, – наше.







 Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост»
Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост» Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год)
Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год) 8 июня Александр Лазарев
8 июня Александр Лазарев
