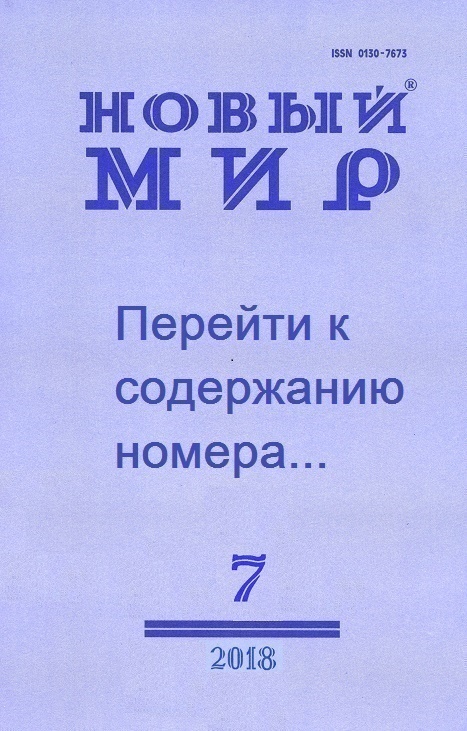
Самое популярное
Проекты

Татьяна Колмогорова. Этнокультурное своеобразие картин мира
О рассказах С. Афлатуни, В. Муратханова, И. Одегова, А. Торка, С. Янышева
Санджар Янышев. Умр, или Новая книга обращений
С середины ХХ века стала актуальной этнокультурная проблематика, порожденная тектоническими разломами мировой истории: распадом империй, образованием «постколониального» пространства и глобальными миграционными потоками. Обсуждались две модели развития: «плавильный котел» и мультикультурализм – слияние и сосуществование автономных социально-экономических, национально-культурных, психологических, языковых и других установок.
Уход в историческое небытие советской империи имел особое значение для истории русской литературы. На рубеже 80-х – 90-х годов ХХ века был расчищен путь для возвращения подцензурных произведений, созданных в метрополии и за ее пределами. Русская литература начала обретать полный корпус своих художественных текстов. Однако почти одновременно началось разрушение литературных связей с новообразовавшимся российским зарубежьем.
С. Афлатуни, В. Муратханову, И. Одегову, А. Торку, С. Янышеву «выпало в империи родиться» и жить в ее азиатских «провинциях». Все они – «русские по профессии»,[1] русский язык – единственный язык их творчества. В эпоху исторических перемен они оказались в драматически сложной ситуации социального, национального и культурного выбора между Своим и Другим берегом.
Вполне естественно, что жизненным материалом многих их произведений является азиатская действительность, которая познавалась изнутри личного опыта. Ориентализм, подразумевающий увлеченность восточной экзотикой и стилизацию, не соприкасается с их творчеством. Перед читателями всегда представал традиционный образ жизни, имеющий глубинные религиозно-мифологические основания. Азия – сакральный мир, сформировавший их личность, мировоззрение и художественное мышление.
Чтобы понять формирование личностных и литературных картин мира, необходимо коснуться фактов биографии и творчества, обычно не обсуждаемых в критике: этнической принадлежности, места рождения и жительства, образования, религиозного самоопределения, наличия псевдонимов.
Национальная идентичность и место рождения – «утраченный рай» детства – почти всегда становятся частью личной мифологии, питающей творчество. Высшее гуманитарное образование на русском языке, избранное будущими писателями, – вполне осознанная социокультурная установка. «Этнические квартиры», в которых жили, живут и работают писатели, – знаки не только биографического, но и творческого выбора. Самая деликатная часть внутреннего мира, имеющая отношение к формированию мировоззрения и мироощущения творческой личности, – религиозное самоопределение или его отсутствие.
Сухбат Афлатуни – литературный псевдоним Евгения Абдуллаева. Его этническая принадлежность – узбекско-еврейская. Постоянно живет и работает в Ташкенте. Православный христианин. Для Е.Абдуллаева, философа по образованию, псевдоним имеет особый мировоззренческий и творческий смысл: восточный этноним сочетается со скрытым для читателя его значением – «диалоги Платона».
Вадим Муратханов – русско-узбекской этнической принадлежности. Родился в Киргизии, последние десять лет живет в России, в Подмосковье. Получил университетское образование по русской филологии в Узбекистане, в Ташкенте. Там же начал творческую деятельность.
Илья Одегов – этнический русский, с раннего детства постоянно живущий в азиатской «этнической квартире»: Казахстан, город Алматы. По образованию языковед, юрист. Принял ислам в традициях суфизма – одного из направлений классической мусульманской философии.
Алексей Торк – литературный псевдоним Алишера Ниязова. Этническая принадлежность – русско-узбекская. Родился в Таджикистане, жил в России, сейчас живет и работает в Киргизии. Журналист по образованию, работал по специальности, в том числе для российских СМИ. В псевдониме сочетается данное ему при крещении имя Алексей и фамилия Торк, по названию тюркского племени, жившего в Киевской Руси.
Санджар Янышев – узбекско-татарской этнической принадлежности. Родился, учился и начал творческую деятельность в Узбекистане, в Ташкенте. По образованию филолог-русист. С 1995 года живет и работает в Москве.
Биографические факты неоспоримо свидетельствуют: эти русские писатели внутри собственной личности и в жизненной действительности существуют на границе этносов, языков, культур, религий. Выбор «пограничных» псевдонимов подтверждает эту мысль. Их миропонимание и мироощущение не могут не отличаться от общепринятых установок той или иной этнокультуры. Систему отличий можно выстроить гипотетически, реконструируя основные научные положения об этнической картине мира.
Любой этнос в своих представлениях о мире стремится рационализировать и упорядочить окружающую действительность, сделать ее устойчивой и понятной. В этнокультуре вырабатываются стереотипы мышления и поведения. Отдельный человек принадлежит Роду и находится под защитой Рода.
Если у человека этническая, родовая принадлежность и культурные установки не «упорядочены», – стереотипы разрушаются, рациональное объяснение мира подвергается сомнению, действительность и ее восприятие становятся неустойчивыми и неравновесными. Соответственно, у субъекта творчества художественная картина мира приобретает «необщее выражение».
Санджар Янышев, Вадим Муратханов, Сухбат Афлатуни в 1999 году стали инициаторами создания «Ташкентской поэтической школы». Главной культурной установкой было стремление удержать слой русского художественного слова, исчезающий в независимом Узбекистане. Отличительной особенностью манифеста «Ташкентской поэтической школы» является то, что он обладает не только собственно литературным, но и отчетливо выраженным пассионарным пафосом. Одна из найденных молодыми поэтами образных формул – «Полукровство явило новую «микрорасу» со своим особым менталитетом».[2].
Спустя полтора десятилетия эта формула наполнилась более широким, чем смешение «кровей», содержанием. Можно с уверенностью предположить, что «полукровство» – «пограничный» вариант этнокультурного развития, которое вовлекает в свой поток все ранее устойчивые установки и способы их взаимодействия. Особый менталитет вырабатывается путем их сосуществования, столкновения, контаминации, слияния. Интеграция разнородных и разнонаправленных элементов создает новую целостность – внутренне подвижную, вероятностную и потому плодотворную. Потенциально такой менталитет может принадлежать людям разных национальностей и культур.
На языке литературоведения «полукровством» можно обозначить интегрированное художественное мышление, коренным образом меняющее принципы организации литературной реальности. Подобный тип художественного мышления присущ не только авторам манифеста, но и другим современным писателям, которые формировались в «пограничных» условиях.
В настоящее время творческие интересы всех названных авторов лежат в области прозы. Они много лет публикуют прозаические произведения; С. Афлатуни, И. Одегов, А. Торк награждены престижной Русской премией как прозаики. Однако их проза пока минимально входит в поле критического зрения. Настало время задаться вопросами: как влияют особые этнокультурные установки авторов на создание художественных картин мира в прозе, в чем их новизна, какими красками они написаны.
Основной смысловой план большинства произведений авторов с интегрированной ментальностью – оппозиции противоположных миров и выходы из этой оппозиции, возможность прикрепления к Роду, самопознание «особости». Художественная мысль авторов движется «вертикально» и «горизонтально»:
— во внутриличностной оппозиции, которую можно определить как свой среди других и другой среди своих; в дискурсах своих и других языков;
— в сопоставлении разных миров;
— в глубине времени и пространства детства, этнического рода и воспоминания о нем;
— в архаически-родовом и мифологическом сознании, сохраняемом в традиционных культурах этносов; в смысловой амбивалентности, присущей мифологемам и архетипам;
— в религиозных, метафизических, ирреальных и фантастических мирах;
— в окультуренных пространствах классических литературно-художественных образов и великих Книг – Библии и Корана.
Авторы, чье мировоззрение и мироощущение принципиально неравновесно, создают художественные произведения как здание, план строительства которого не до конца ясен. Литературная реальность, как Пизанская башня, «наклонена». И чем сильнее отклоняются авторы от правил художественного строительства, тем интенсивнее вовлекается читатель в достраивание.
«Архитектурной» трансформацией литературной реальности является тяготение Вадима Муратханова, Ильи Одегова, Санджара Янышева к циклизации произведений малых форм, к объединению их в текст-лабиринт, пройдя по которому читатель должен выйти с багажом смыслов. В творчестве Сухбата Афлатуни объединяются романные формы. Связующие силы циклов в их творчестве индивидуальны, но в большей или меньшей степени несут «память жанра». Особо значимым, а иногда и единственно важным, становится для наших авторов общее заглавие циклов – всепроникающий концепт и метатекстовая конструкция, т.е. «высказывание о высказывании», управляющее восприятием и пониманием.
Название цикла В. Муратханова «Долгие жизни в самане», грамматически непривычное и дактилическое по звучанию, имеет поэтическую множественность смыслов и вводит читателя в лиро-эпическое пространство действия и воспоминания о нем. Цикл имеет однородную повествовательную структуру от первого лица и равномерный объем отдельных частей – рассказов.
Недавно опубликованный цикл И. Одегова, озаглавленный в журнальном варианте «Культя, рассказы», организован вне всяких стереотипов. Необычно однострочное, через запятую, сочетание образного названия и жанрового подзаголовка. Рассказа-ключа с таким заголовком и соответствующим сюжетом в цикле нет. Колеблется смысл слова «культя»: с одной стороны, это метафорическое ограничение объема повествования; с другой – слово скрыто несет семантику особого значения «Я» («культ Я») и травестирование власти «Я».
Произведения из цикла Санджара Янышева «Умр, или Новая книга обращений» очень разнообразны по своей родовой, видовой и жанровой принадлежности. Публиковались они постепенно, в течение нескольких лет. Каждое слово в общем названии цикла имеет свой художественный вес. «Новая» – обозначение этапа творческого пути, необычности художественных средств, заявка на масштабность. «Книга» в расширенной коннотации отсылает к смыслам «Книга (Библия, Коран) – книжность». «Обращение», прежде всего, – превращения и метаморфозы, а также «жест», обращенный к читателю. «Умр» – главный элемент общего названия, появившийся последним, но ставший первым по местоположению и значимости. Ключевое слово, которое в русском звучании напоминает междометие, а по смыслу вызывает ассоциации со смертью, на узбекском языке означает «жизнь». Автор не дает его перевода и толкования, синтаксическая конструкция сдвоенного названия цикла тоже не проясняет семантику слова, и ни разу оно не употребляется в произведениях цикла вплоть до заключительного верлибра с названием «Умр». Метатекстовая функция загадочного для читателя названия – обострение восприятия.
Цикл «Долгие жизни в самане» В. Муратханова на всех уровнях произведения пронизан со- и противопоставлениями. Оппозиции другого среди своих и своего среди других, детскости и взрослости организуют смысловое пространство текста.
Русский двор для героя-«полукровки» безоговорочно свой и родной: там дом, семья, свои незыблемые устои и правила жизни, материнский язык – русский. (Материнский язык – дословный перевод узбекского названия родного языка: «она тили»).
Мир узбекский для ребенка-рассказчика тоже свой и родной: свод обрядов, ритуалов, регламентированных правил поведения и общения воспринимаются рассказчиком по-детски легко, почти так же, как грамматические правила, не осознаваемые большинством людей, не мешают свободно говорить.
Закономерно, что в числе главных действующих лиц в сюжетах цикла – деды, олицетворяющие родовое сознание. «Весть о том, что дедушки не стало, мне пришлось трижды, с каждым разом все громче, кричать на ухо дедашке, спросившему: – Дедушка кандай? ...Расслышав меня, дедашка зацокал языком и закачал головой. Возможно, это был единственный случай, когда два моих взаимоисключающих, разноязыких, но почти омонимичных деда по-настоящему встретились». [3]
Одно из основных правил русского дедушки – «каждая вещь должна знать свое место». [4] Как соотносится это правило с главным героем-рассказчиком? «Своими» называли русские бабушка и дедушка узбекскую родню мальчика. Кавычки в данном случае делают слово обратным по значению: «свои» – это другие, чужие. В этом же предложении двор узбекской родни назван чуждоязыким без кавычек.
Чье сознание выражено в этих словах? Воспоминание ли это об отношении, не самом благожелательном, русского дедушки к узбекской родне? Или это самоощущение рассказчика? Оценка из другого времени? Из другой культуры? Предполагаемая реакция читательского сознания?
Автор-«полукровка» наделяет рассказчика-ребенка собственной сдвоенной национально-культурной идентичностью и доверяет ему роль поводыря для входящего в другой мир читателя. Все художественные приемы включаются в ментально-языковую игру с читательским сознанием, благодаря чему восприятие разветвляется и постепенно становится о-своением другого мира.
Ненавязчиво включаются в текст азиатские реалии, слова и беседы на другом для рассказчика и читателя языке, звучащие «наподобие журчания арычной воды и щебета ласточек». Природа родного языка рассказчика сказывается в том, что он называет узбекских родственников азиатскими именами с русскими уменьшительно-ласкательными суффиксами: дедашка и аяшка (узбекские дедушка и бабушка), Марипик, Ахатик и т.п.
Во внутреннем мире «полукровки» парадоксально сосуществуют предустановленные правила азиатского мироустройства и желание уклониться, выйти за пределы нормативной установки. «От меня всегда ускользал момент, когда взрослые отдавали свои распоряжения». [4] Уже в этой первой фразе «саманного» цикла определены метки оппозиций: рассказчик – не взрослый и одновременно взрослый, потому что говорит о прошлом из будущего; оценочность в слове «ускользал» – сугубо взрослая и другая.
Для заключительного рассказа – «Обрезание» – автором выбран сюжет, тесно связанный с религиозными основаниями узбекской жизни. Если в предыдущих рассказах цикла противостояние миров было сглаженным, то в «Обрезании» оно становится явным. Обрезание есть частная форма инициации, смысл которой – введение во взрослую жизнь, приобщение к национально-родовым и религиозным традициям. Рассказчик наблюдает за обрядом, которому подвергаются мальчики – родственники по узбекской линии. Над «полурусским» героем обряд не производится. Развитие событий демонстрирует нарастание конфликтности. Герой-ребенок грубо и сильно толкает только что «обрезанного» мальчика, пытается спрятаться, а затем, под осуждающими взглядами и словами родственников и гостей, происходит его Изгнание с родного узбекского двора. На уровне фабулы изгнание – это наказание за проступок. Однако следствием чего он является? Рассказчик во всех своих ипостасях и позициях лукаво признается в непонимании, провоцируя тем самым появление в читательском восприятии парадоксальной версии: может быть, инициация, в которой герою отказано, была желанна, может быть, им двигала жажда родовой определенности?
Проявить отношение автора к разным мирам – функция отделенного от последнего рассказа графически краткого эпилога: «Сегодня мне, научившемуся различать движение часовой стрелки на циферблате, уже трудно поручиться, что все эти памятные события эпохи двух саманных домов случились в запечатленной моим повествованием последовательности. Но могу заверить в одном: все описанное здесь – правда, от первого до последнего слова. Например, до вот этого: дарахтлар». [5]
Слог носит витиеватый, «восточный» характер, фраза установки на достоверность – «правда, от первого до последнего слова» – звучит как клятва в «европейском» суде, после чего последним и нарочито случайным словом автора в цикле становится узбекское слово «дарахтлар» (деревья), перевод которого намеренно не приводится. Устанавливается концептуальная и стилевая дистанция между автором, его произведением и читателем: пафос лирического воспоминания о детстве снижается и создается эффект края в восприятии всего текста цикла – от лиро-эпического названия к финалу, в котором иронизируется и «восточность», и «европеизм», и «автобиографизм». Автор оставляет читателя в точке сплетения противоположных смыслов.
Рассказ С. Янышева «Исхак Адывар. Праздник Суннат» из цикла «Умр» и заключительный рассказ «саманного» цикла В. Муратханова «Обрезание» совпадают по теме обрезания-инициации, принципам создания художественных картин мира через оппозиции и по форме повествования от первого лица. Однако русское слово «обрезание» у Муратханова и тюркское «суннат» у Янышева при сопоставлении действуют как указатели, направленные в противоположные стороны.
Рассказчик в рассказе С. Янышева отделен от автобиографизма заглавием: объявлением в именительном падеже имени и фамилии героя – Исках Адывар. Рассказчик «Долгих жизней в самане» ни разу не назван по имени, поэтому для читателя облегчается идентификация его с биографическим автором, В. Муратхановым.
Герою-рассказчику «Обрезания» инициация недоступна, хотя по национальности и вероисповеданию отца возможна. Для героя-рассказчика Янышева инициация обязательна, и обрядовое событие происходит, но оборачивается опасностью смерти или кастрации. Автор актуализирует смертельный риск, который исторически входит одним из слоев смысла в инициацию и внутренне связан с мифологемой смерти – возрождения.
Капсулы «восточного» и «европейского» миров в цикле Муратханова сосуществовали в общем азиатском ареале советской Киргизии, и оба мира были для рассказчика своими. В рассказе Янышева место действия – Европа в прямом географическом значении, турецкая община непосредственно в столице ГДР Берлине. Поэтому и немецкий мальчик Мартин, с которым играет Исхак, и немецкий доктор, который после неудачного исхода обрезания обещает подать в суд на всю мусульманскую общину, – персонажи реального европейского мира и в то же время знаки противоположности и противостояния миров.
Концепт полного названия рассказа Янышева создает внутренние оппозиции в сюжете и системе персонажей; семантика «праздника» оборачивается неожиданной стороной. Мусульманский обряд в жизненной реальности действительно празднуется широко, сопровождаясь обязательными подарками и особо вкусным угощением гостей. Герою рассказа подготовка праздника, который окружающие почему-то называют «свадьбой», кажется непонятной и неприятной суетой в доме. Он ничего не знает о том, что его ожидает, никак и никем к этому не подготовлен. Физическая боль обрезания усиливается для него тем, что она следствие всеобщего, целенаправленного, унизительного обмана. Нравственная и психологическая оценка героем происходящего носит явно взрослый характер при сохранении детской фразеологии.
Инициационный сюжет усложнен противостояниями архетипического плана. К матери мальчик Исхак испытывает особое чувство близости – с психологическими оттенками архетипа «эдипова комплекса», и участие матери в обмане не меняет любовного чувства, совершенно неприемлемого в мусульманском мире. «Золотозубый» сосед Ибрагим, претендующий на роль мужа и отца, участвует в создании «эдиповой» сюжетной коллизии. Архетипическая основа образа Ибрагима – библейский Авраам. В сюжет вводится подчеркнутая совпадением имен героев параллель с жертвоприношением сына Исаака, которое готов совершить Авраам. Отметим, что мифологема жертвоприношения очень значима в исламе и является основой одного из двух главных мусульманских праздников: Курбан-байрам. Исхак – Жертва, его ведут под нож, как на заклание, но Ибрагим, грубой силой удерживающий Исхака во время обрезания, – ложный Авраам, лже-Отец, «никто», по слову рассказчика. Параллель получает обратный смысл.
Амбивалентность отчетливо проявляется и в контрастах начальных и финальных состояний героя: безотчетной тревоги перед обрядом инициации и радостной мужской уверенности в собственной силе. «Красивый доктор, молодой, сильный. Он похож на мою маму (КАК она на него смотрит!). Он ругается, а мне не страшно. Я знаю, что я теперь – мужчина». [6]
В рассказе С. Янышева есть крошечный послетекстовый элемент, выполняющий роль эпилога: «Июнь 1980, Кройцберг». Ловушка для читателей: заметят или не заметят, что факт рассказывания отнесен к 1980 году, что зрелый автор «оглядывается» на себя и свое произведение. Автор посылает лучик почти неуловимый, но для внимательного читателя способный дополнительно осветить умноженное время и пространство бытия и сознания, представленное в рассказе сквозь Европу и Азию, сквозь толщу мировой культуры.
Финалы и эпилоги рассказов открывают выход в общее смысловое пространство циклов. Напрашиваются выводы о Вхождении в Род у С. Янышева и Изгнания из Рода у В. Муратханова. Однако эти выводы счесть полными, устойчивыми и окончательными невозможно, потому что существует «неисключенное третье» в концепции и поэтике обоих рассказов и обоих циклов: дистанцирование авторов от биографического «Я», от всех изображенных миров, от рассказчиков, от собственных сочинений. Происходит своего рода возведение моста между берегами смысла и стиля, поиск эстетически завершающей «точки вненаходимости».
Другой путь к «вненаходимости» автора-создателя прослеживается в рассказе из цикла «Умр» С. Янышева «Зоя-Зумрад. Маком об искуплении». Главная героиня рассказа, по рождению принадлежащая этнически традиционному «Богу предков», делает шаг за пределы своего мира. Перед нами предстает сложная взаимосвязь религий единобожия, взаимодействие людей и поколений в полиэтническом и мультикультурном мире.
Сюжет рассказа – поиски правды об отце, пропавшем в годы войны, которого считают предателем, и обретение сводного брата по отцу, живущего в Югославии, о существовании которого героиня не знала, пока не получила от него письмо. Во время поисков Зумрад попадает в иные миры – географические, социальные, этнические, религиозные – и обращается в христианку Зою. После всех странствий новообращенная Зоя возвращается на свою азиатскую родину, т.е. совершается еще одно обращение героини, завершающее ее внутренний цикл. Циклические обращения героини воспроизводят в определенной мере ситуацию мифа – эпоса – сказки.
Почему и как произошло обращение из мусульманства в христианство? Героиня ищет не только ответы на вопросы, кто же был отец на самом деле, она ищет действенную возможность искупить грех отца. «А может, ваш отец и не предатель? – говорят. Как не предатель, всё равно предатель. Он маме предал». [7] В иных мирах состоялась важная для Зумрад встреча с православным священником, которому она рассказала свою историю поисков, и в рассказе Зумрад так передает его слова: «Потом сказал: ты молодец, ты чистый, может, и он чистый будет – через тебя». [8]
От имени рассказчика предлагается такое объяснение: «Почему Зумрад стала Зоей? «Узнаете их по плодам». Значит, не только дела несем на Суд, не только помыслы, но, главным образом – плоды, проверьте-ка. «Не собирают с репейника виноград, не снимают с терновника инжир». Юсуф – тот терновник, Зумрад – тот виноград. Кто плод Юсуфа? Дочь его Зумрад, Зоя во Христе. И брат, конечно. Радован. Он, кстати, вчера приехал к ней из Югославии». [9] Версия рассказчика неожиданна: обращение в христианство вызвано тем, что Зумрад решила стать тем самым плодом, по которому узнают на высшем суде об их Роде, а «бог предков» не может дать такой возможности Зумрад.
Но из какого мира рассказчик, какова его роль? Откуда сугубо личное сообщение о том, что он «много думал о Зое-Зумрад»? Почему рассказчик уверен, что в соответствии именно с его версией Зумрад стала Зоей? Если он верит в Аллаха и знает Коран, если он сказитель истории мусульманского этноса, если он близко знает людей азиатского мира, откуда слова из христианского Писания? Если он из христианского мира, если он свободно владеет библейскими текстами и берется их трактовать, откуда близость к тюркскому дому, по-соседски фамильярное: проверьте-ка, кстати, вчера приехал? Рассказчик не определен и не может быть определен, потому что перед нами «наклоненная» литературная реальность.
Повествовательно и композиционно рассказ развивается по принципу музыкальной полифонии: многоголосие с последовательным вступлением каждого из голосов, с прямым и обратным их ходом. Каждый голос имеет свою, включающую искажения и неправильности, фразеологию, обнаруживающую языковую плоть разных миров и разных личностей. Голоса слоятся и пересекаются, образуя контрапункт самостоятельных и равноправных смысловых мотивов, принадлежащих к противоположным мирам. Два имени героини; двойственность смыслов внутри понятия «искупление»; два значения музыкального термина «маком», одним из которых является «цикл из законченных произведений». Двоичные и троичные ипостаси героев позволяют услышать голос Библии и наводят на самое обобщенное вопрошание: кто Жертва и кто Спаситель, кто есть Отец, кто есть Брат, где веет Дух.
В рассказе «Зоя-Зумрад. Маком об искуплении» «вненаходимость» создается полифоническим равноправием всех голосов жизни и голосов Книг, которые автор сумел выслушать, как герой его рассказа отец Иларион, внимательно, заинтересованно и сердечно. Русский писатель исполняет эпический маком – классическую вокально-инструментальную форму Востока, осмысляя вечные и остросовременные проблемы в их конфликтном сочетании и в возможностях гармонического разрешения.
Цикл И. Одегова «Культя, рассказы» открывает рассказ «Намаз». Зачинное положение «Намаза» в цикле указывает на его особую значимость для автора и для читательского восприятия цикла в целом. Название рассказа обозначает каноническую мусульманскую молитву, исполняемую 5 раз в сутки в определенное время. Во время намаза совершается цикл молитвенных поз и движений, сопровождаемых произнесением молитвенных формул, и все они следуют друг за другом в строго обязательном порядке. Это позволяет интерпретировать «Намаз» на разных смысловых уровнях: как указание на сотворенную природу личности автора текста; как «пульс», поддерживающий целостность и жизнеспособность всего цикла; как благословляющее напутствие, обращенное к автору, к герою и к читателю. Отдаленным сравнением могут служить этикетные идиомы русской речи: напутствия «с Богом», пожелания «Бог в помощь», просьбы «ради Бога», эмоциональной оценки происходящего «Слава Богу».
На предельно сжатом пространстве текста создается картина мира, внешне правдоподобная, но имеющая глубинный слой метафизической обобщенности. Действующие лица рассказа – мальчик, от лица которого ведется повествование, его мать и приехавший в гости брат матери – не имеют личных имен. Не ясно время и место действия, хотя некоторые детали – сильная жара, плохая вода – наталкивают на мысль об Азии. Этническую принадлежность героев определить тоже не удастся, так как исполнение дядей мусульманского обряда молитвы не обязательно обусловлено его тюркской национальностью. Образные константы мира, в котором пребывает мальчик, – дом, сад, дерево, мать – имеют мифологические и архетипические корни.
Внешний вид неопрятного бородатого старика вызывает у мальчика неприязнь, а порой и отвращение. Мальчик сомневается в родстве противного дяди, которого он воспринимает как чужого человека, и любимой мамы. Конкретные детали описания характеризуют повышенный градус эмоциональности юного рассказчика. Конфликтная контрастность двух главных действующих лиц привлекает дополнительное внимание к соотношению старика и ребенка как экзистенциально соединенных «краев жизни».
Центральное событие сюжета – случайное наблюдение сидящего на дереве мальчика за дядей, который совершает намаз. Автор использует прием «остранения» для описания непонятных ребенку движений: «…Он вдруг наклоняется, упираясь ладонями в колени, замирает так на секунду и снова распрямляется и тут же, словно сдувается, опадает, свернувшись в клубок и упершись лбом в землю...».[10]
«Детская» образность восприятия ритуала переливается в воспоминание, возникающее у мальчика при виде молящегося: «Я вспоминаю прошлогоднее море – волны так же накатывали и откатывались, а я все ждал, когда же они лизнут мои облепленные песком пятки».[11]
Автор уводит религиозный смысл в подтекст, и только в самом тонком его слое слова о воде несут символику мусульманской обрядовости: омовение ног обязательно перед намазом. Воспоминание словно проступает в «незамутненном» сознании героя-ребенка как колеблющееся отражение «коллективного бессознательного». В обобщенном слое сравнение циклических движений молитвы с волнами отсылает читателей, принадлежащих к разным этнокультурам, к образным представлениям, в которых циклы рождения и смерти, циклы смены поколений схожи с непрекращающимся плеском волн у берегов моря, а образ песка входит в коннотацию текущего времени. Воспоминание можно толковать как активизацию чувственного и мыслительного развития личности и даже как способность в будущем погрузиться в волны мусульманского прибоя.
В финальной части рассказа автор разворачивает предполагаемые смыслы в противоположную сторону. После молитвы дядя находит в траве под деревом мячик и радостно, по-детски тянется к нему. Увидев это, рассказчик возвращается к моменту действия, к психологии озорного мальчишки. «…Охваченный внезапным порывом и не имея сил сдержаться, я выплевываю гладкую коричневую вишневую косточку точно ему в лысину».[12] Конфликт своего – другого смягчается скрещением детских и взрослых позиций, которые переплетаются внутри персонажей и между ними, образуя нерасчленимое целое.
Последнее предложение останавливает читателя в точке ветвления смыслов, чреватой их разрушением или новой самоорганизацией. «Намаз» несет читателю ауру целостного мусульманского мира, и если она не коснется восприятия и понимания, рассказ будет выглядеть почти анекдотическим случаем. «Детскость» картины мира способна затронуть восприятие большинства читателей: осознанные или ушедшие в подсознание чувства и эмоции собственного детства сохраняют неясные образы личной памяти, из которых можно смонтировать и прошлое, и будущее. Диалектическое единство разных миров открывает для читательского восприятия многомерность и непредсказуемость жизни и способно вызвать развертывание смыслов рассказа в «послевкусии» текста. Метафизические и мифологические «блики» образов и смыслов трудноуловимы, но создают простор для интуиции и воображения читателя.
В поисках связующих человечество общностей, выхода из оппозиции миров к общечеловеческим смыслам написан рассказ Сухбата Афлатуни «Проснуться в Ташкенте», который последовательно мифологизирует описываемую действительность. Такой тип преобразования жизненной реальности присущ большинству произведений С. Афлатуни, в каком бы жанре прозы он ни работал. На протяжении всего творческого пути писатель создает художественные миры, сопряженные с переосмыслением этнокультурных, религиозных и мифологических пра-образов.
В названии рассказа вводится одна из основных мифологем: временной смерти, равной возрождению. Сон и пробуждение – лейтмотивы, исходящие из этой мифологемы, которые озвучивают глагол «проснуться» модальностью недействительности. Реальный город Ташкент сначала предстает как феномен чувственного созерцания, а потом становится Городом-Миром, амбивалентно способным провалиться в хтоническое подземелье и стать землей обетованной.
Ташкент, названный или неназванный, – место действия и «действующее лицо» многих произведений Афлатуни, а вот этническое полукровство и размышления о нем существуют только в рассказе «Проснуться в Ташкенте». «“… Вот сам скажи, ты узбек?” “Да”. “Или ты еврей?”. “Да”, – кивал я. “Так нельзя, – морщился Шишка, – человек должен быть чем-то одним. Нельзя быть одновременно мужчиной и женщиной, христианином и буддистом…” “Эллином и иудеем”, – добавлял я.
…А я и сам не знал, кто я. То ли еврей, скрывающийся за узбекской фамилией, то ли узбек, скрывающийся за еврейской внешностью. Продукт советской межнациональной алхимии, шагающий теперь по нагретому от трения стольких религий городу». [13]
Вопрос об этническом самоопределении в диалоге с израильским другом, бывшим ташкентским одноклассником, вызывает у рассказчика позитивные ответы: «да» и «да» (в отличие от возможных «нет» и «нет»). Собственное «полукровство» принимается им как данность; размышления появляются из-за сдвига места действия, которое перемещается в момент диалога в Иерусалим.
Упоминание самых известных слов из Послания апостола Павла к Колоссянам – «эллин и иудей» – вводит дополнительные векторы ассоциативных смыслов. Религиозный смысл той части христианского послания, в которой утверждается равенство язычников и монотеистов перед новой верой, прирастает общечеловеческим желанием упразднить любые противопоставления.
Новозаветные слова проверяют на прочность обыденный здравый смысл, укорененный в жизненной реальности. Здравомыслию не удастся выдержать испытание: носитель такого типа сознания, друг рассказчика по имени Шишка, в конце концов, просто ускользнет от норм и правил своего мира в пустыню, став вместе с украденным еврейским сыном странником среди арабов-бедуинов.
Путь в мифологическую глубину в рассказе С. Афлатуни идет через умножение субъектов творчества и сотворчества. Ключевая фраза интегрированного рассказчика: «Да, это я – теперь я себя узнал».[14] Многократный подхват функции рассказывания «всезнающим» повествователем создает колебания повествовательной структуры, мало заметные для восприятия, но именно изменчивость и многослойность позволяет автору опосредованно вводить мотивы мифов Творения, подчеркивая их смысловыми акцентами Этноса и Рода.
Главная героиня Хава – больная душой девушка из Иерусалима, которая психологически и «овеществленно» живет внутри трагической истории ХХ века, внутри Холокоста. Родители привозят Хаву в Ташкент, чтобы она нашла и услышала души погибших, этнически ей единокровных.
Имя Хава (иврито- и арабоязычное произношение имени Ева), согласно иудаистическим, христианским и мусульманским религиозно-мифологическим представлениям, – имя первой женщины, жены первого человека и праматери рода человеческого. Созданная как часть первочеловека Адама (в переводе с узбекского языка «адам» – человек), как его брачная пара, Хава всегда ищет своего Человека. Поиски героини рассказа, приводящие ее в Ташкент, во временно пустующий дом не названного по имени человека, позволяют увидеть в герое-«полукровке» архетип «первочеловека», тоже ждущего свою половину. Образы героя и Хавы символически представляют людей, которые неосознанно тянутся друг к другу, ощущают внутреннюю общность, словно возвращаясь интуитивно к первоистокам. Индивидуальность персонажей приобретает универсальный характер.
Но так же, как слова из Нового завета отчуждали здравомыслие в диалоге с другом, так в разговоре сына и отца здравомыслие уводит мифологические мотивы от прямого изъявления.
«– Я знаю, что говорю. Теперь надо только найти невесту... Невесту...
Он засыпал.
Я поднялся и тихо направился к двери.
– Слушай...
Я остановился.
– А эта твоя израильтянка, которая приехала? Как... ее дела?
– Она больная, папа, – сказал я, уловив направление его мыслей. – Тяжело больная». [15]
Система персонажей рассказа способна отразить разные образы рода человеческого, в совокупности принципиально важные для понимания умноженных смыслов. Женщина по имени Любовь в детстве жила в одном доме с певцом – акыном, а теперь сама, как акын, сочиняет и поет на двух языках свои песни-рассказы о людях и жизни. Этот женский персонаж мог бы приобрести иронический или комический смысл, но автор утепляет Любовь человеческим и «сочинительским» сочувствием. Теплоту и свет родного мира излучает таксист Шухрат, способный с одного взгляда, с одного разговора почувствовать чужую боль; это персонаж, который можно обозначить как «соль земли». Почти мистическим внешним сходством автор наделяет женских персонажей – матерей Хавы и рассказчика, в которых просматривается архетип Матери.
Художественное время рассказа течет нелинейно, с поворотами и возвратами от постсоветской азиатской действительности до архаической древности Рода. Пространство действия и пространство мысли организовано в рассказе так, что привычная оппозиция Востока и Запада трансформируется. «Восток» Ташкента сопоставлен с «Востоком» Иерусалима. «Западный» мир лишь задевает сопоставление, и не столько духовным, сколько «техническим» своим присутствием. Ташкент и Иерусалим имеют жизненно-реальные приметы современной социальной действительности, но постепенно приобретают концентрированную обобщенность и сливаются в архетипе «Земли Обетованной».
«Космогоническая» задача решается в контрастном сопоставлении начала и финала произведения, где автор-повествователь сводит воедино все концептуальные смыслы, и их темная, теневая сторона почти не видна в ярком поэтическом свете. «Этот город, теплее и прекраснее которого не может быть ничего во вселенной, город, где поцелуй пахнет пылью и соком граната, где нет ни голода, ни войны, а только бесконечный свет... Этот город снится Хаве каждую ночь, его огромные деревья, говорящие на идиш и других неведомых языках, его бесконечные глиняные дома и общие дворы, где в каждом окне шьют, играют на скрипке, чинят обувь, возжигают свечи... И перед сиянием этого города бледнеет черная труба крематория, и лай овчарок – Господи, зачем они так страшно лают?! – и крики конвойных... И сама Хава уже растворяется в этом свете и уже бродит между нагретыми стволами чинар и бегущими в пыли детьми, прижимая к груди розовую мякоть огромного помидора и обветренный кусочек редьки... И смеется, захлебываясь от лучей солнца, изливающего на город свою бесконечную, горячую, ничем не объяснимую милость...». [16]
Финал звучит как гармонически разрешающая кода музыкального произведения, как библейская «песнь песней», как гимн всеобъемлющей и ничем не объяснимой любви к противоречивому миру. Всю мощь позитивных смыслов автор направляет от пустоты и темноты Хаоса к солнечному Космосу.
Картина мира в еще одном «ташкентском» рассказе С. Афлатуни, «Бабушка № 20948-Z», написанном в жанре юмористической фантастики, высветлена и согрета юмором и теплом авторского сочувствия. Заглавная героиня рассказа – инопланетянка, которая когда-то аварийно приземлилась в Ташкенте. Теперь она живет в махалле (так называют квартал городских частных домов), постоянно совершая полеты в космос на своей летающей тарелке. Ее цифровое имя 20948-Z соседи перевели в ласковое узбекское имя Зуля, и хоботки на голове Зуля по-узбекски заплетает в косички. Мир европейский не присутствует в описаниях, а инопланетные миры в пересказе бабушки комически воспроизводят ташкентскую действительность.
Снова, как и в рассмотренных произведениях Муратханова, Одегова, Янышева, мы встречаемся с юным рассказчиком. Концептуальная значимость выбора именно такого типа рассказчика несомненна для всех авторов. Существование и сосуществование разных миров, представленное с «детской» психологической, временной и фразеологической точки зрения, становится непосредственным и органичным, а выражение авторской позиции – многозначным и свободным от назидательности.
В рассказе Афлатуни совершенно естественным для ребенка является его узбекско-инопланетное происхождение. Мальчик, как сказитель эпоса, с удовольствием пересказывает семейные истории, а читатель слушает мифы и легенды необычного, другого Рода. Слово на русском языке предоставлено миру азиатскому – своему и родному для рассказчика и для автора.
Миф о продолжении рода – самый трогательный, самый юмористический и самый символический: дедушка боялся за жизнь бабушки, когда собрались они детей заводить, но «…бабушка сказала, что уже бывали случаи, когда у жителей ее планеты от землян детишки рождались, и стала их перечислять: Будда, Сократ, Юлий Цезарь, Алишер Навои». [17]
Каждая из семейно-родовых историй имеет свою сказочную, мифологическую или литературную проекцию. Каждый эпизод-рассказывание и эпизод-действие открывают нам философско-поэтический подтекст «легкого» текста. Финал рассказа напоминает рождественскую историю: состарившаяся бабушка в очередной раз полетела в космос ради лекарства для подруги, и в первый день Нового года все родные, друзья и соседи нашли «космические» заказы и подарки, те самые, которые им больше всего хотелось. Сама космическая бабушка так и не появилась. Полет закончился, закончились земные сроки, и бабушка с высоты звездного неба ушла в память Рода, соединив их истинной человечностью. Восток, увиденный свыше, обернулся для читателя мерой идеала во взаимоотношениях разных миров.
В Таджикистане, в горном кишлаке Тутиш, происходит действие дебютного рассказа «Пенсия» Алексея Торка. Отделенный от мира географически и социально, кишлак позабыт-позаброшен: разваливаются дома, нет еды, нет пенсии, нет среднего поколения, подавшегося на заработки в Россию. Есть восемь стариков и одна старуха, чудом оставшаяся в живых после эпидемии туберкулеза, есть брошенные на стариков дети и свора неуправляемых псов. Еще есть непрестанно сменяющиеся власти, которые обирают жителей даже тогда, когда взять уже нечего. Такой набор событий и персонажей способен стать материалом для очерка о проблемах постсоветской Азии.
Но есть основания для совсем иного, отнюдь не публицистического восприятия. Начавшись правдоподобно, сюжет рассказа постепенно превращается в циклически замкнутое наваждение, в морок. Содержание этого морока – ожидание. Вместо неопределимой субстанции, которую в пьесе С. Беккета «В ожидании Годо» можно равнозначно трактовать как конкретное лицо, сильную личность, Бога, Смерть, в Тутише ждут «русского». Учителя, который будет учить внуков, а старикам поможет выхлопотать пенсию. Учитель пытался было приехать, но на него набросились собаки, с которыми никак не могут справиться жители Тутиша. Русский исчезает и уже никогда не появится, а старики ждут и ждут, всматриваясь в дорогу.
Видят они, в действии или в воспоминании, картины прошлого и настоящего, похожие на пугающие миражи: чайханщик Гафур трагически-нелепо гибнет в религиозной распре, Шакарбек придумывает, как похоронить отца, так как по предписанию новой власти коммунистов нельзя хоронить на кладбище… Все абсурдные события и ситуации преподносятся автором через привычность и обыденность их в восприятии персонажей. Жизнь не изменяется, что бы ни происходило в Тутише. Время завязло в ожидании, время остановилось, словно старики уже в вечности, где «времени не будет».
Изменяется только «Годо». Когда президент Таджикистана с выдуманной фамилией перестает «дружить» с Россией и начинает «дружить» с Турцией, старикам сообщают, что они должны ждать «турка». Словоупотребление здесь стилистически и концептуально значимо: не учителя из Турции, не учителя турецкого языка, а «турка». В финале рассказа многократно, словно далеко разносящееся горное эхо, прозвучит: ждите турка, ждите турка, турка, турка… И только «жалостливый тутишский ветер …шептал в уши: «Я с вами, я с вами…». [18]
Последние слова финала – неприкрытое выражение гуманистической авторской позиции, глубоко человечное отношение к старикам и детям, ко всему своему миру. Но есть и другие смыслы, одновременно серьезные и игровые. Жизнь ждала своего пересоздания, своего неповторимого автора, «турка» – Торка, и он появился, создав художественной фантазией этот мир. Сознанием, душой и сердцем он с ним.
В одном из интервью Алексей Торк настойчиво отстаивает свое право авторской власти над вымышленным миром, причем отстаивает как «прирожденный лгун», по выражению У. Фолкнера. «Таджикистан в моих произведениях нереальный. Все события и даже география выдуманы. Мне легче вообразить населенные пункты, обычаи и ритуалы, чем заглянуть в энциклопедию. …Есть и такие, кто упрекает меня в фактических неточностях. К этому отношусь спокойно: это не их Таджикистан, а мой. Я его выдумал – имею право». [19]
Выдуманный А. Торком мир Тутиша «клонится» к другим литературным мирам, создатели которых распад и деградацию жизни воплощали в фантасмагорию. В литературе ХХ века классически известными стали вымышленный У. Фолкнером округ Йокнапатофа и вымышленный Г. Маркесом городок Макондо.
Жестокие ветра истории насквозь пронизывают Макондо и Тутиш, разрывая и сминая жизнь. Сходство образов и смыслов произведений Маркеса и Торка носит архетипический характер: отдаленные и отделенные миры, порождающие и множащие одиночество; пришлые чужаки – то ли хтонические чудовища, то ли «культурные герои»; «вечно живые» хранительницы рода – Урсула Буэндиа и Хафиза. Цикл поколений в Макондо вот-вот разомкнется навсегда, и в Тутише не осталось надежд на смену поколений, потому что растворились где-то за горизонтом те, кто способен продолжить жизнь рода.
Литературные ассоциации, разумеется, не означают, что современный писатель находится в эпигонской зависимости от создателей «театра абсурда», «йокнопатофской» саги, «магического реализма». Возникновение ассоциаций свидетельствует, что окультуренные пространства великой литературы, ее образов и смыслов, которые присутствуют в художественном мышлении автора и в сознании читателей, позволяют создать объемную авторскую картину мира и умножить ракурсы читательского восприятия.
Среди наиболее выразительных произведений «пограничных» авторов самым загадочным является рассказ В. Муратханова «Приближение к дому». События и герои в резко «наклоненном» к ирреальности рассказе кренятся с первой до последней строки.
Начинается рассказ с прямой речи жены героя, Тимура. «– Раз уж ты твердо решил потратить отпуск на свою тьмутаракань…– пожала плечами Валентина…».[20] Так мыслит и выражается сознание напористо чужое. Едущий на поезде герой и бесконечная степь, приближающая родной дом, в котором Тимур не был много лет, одинаково «равнодушно» смотрят друг на друга. Узбекская родня воспринимает приезд Тимура как ответ на телеграмму о кончине родственницы, т.е. реакцию, соответствующую нормам и правилам своего мира. Между тем, герой телеграммы не получал, и предстоящие похороны были для него неожиданностью. Попав в родной двор, Тимур среди людей в халатах и тюбетейках не сразу узнает отца и понимает, кто перед ним, только после слов, обращенных к сыну. Неузнавание отца после 11 лет разлуки абсолютно невозможно в реальной действительности для человека с азиатской ментальностью. Правдоподобно выписанная встреча с покойной и ее вполне бытовые разговоры вызывают лишь «секундную оторопь» в герое и полную оторопь в читателе. Отстраненными и чужими кажутся мысли героя после мусульманских похорон: «…не придавая особой ценности отдельной человеческой жизни, ислам лучше других религий умеет позfаботиться о покойных». [21]
Есть в рассказе, казалось бы, непоколебимая реальность жизни: подробно поименованные персонажи, их разговоры, детали быта, ритуалов и обычаев. Однако герой, увидев шевеление поленьев в старом титане, проваливается сквозь эту плотную реальность в дыру времени, в детство. В этот момент повествователь меняет способ выражения и возникает образно-философская картина видения – провидения – прозрения: «Тимуру вспомнилось, как незаметно сгорает время, если сидишь неподвижно и смотришь на жизнь огня… Одержимо и яростно, до черноты, вылизывает пламя гладкий срез полена, на краю которого шипит и пузырится ищущая последнего исхода, невидимая прежде влага. В такие минуты располагавшиеся во дворе на юбилеях и свадьбах гости дрожали, плыли в раскаленном вокруг титана воздухе, становились бесплотными и недействительными».[22] В обжигающем мареве памяти люди и привычные приметы мира меркнут и исчезают, границы детского и взрослого сознания стираются. Перед читателями неожиданно возникает личность, способная к углубленной сосредоточенности в скрытно бушующей стихии творчества.
Трагикомической причудливостью наполнена сюжетная линия, связанная с женой героя. Во время подготовки похорон Валентина по распоряжению отца Тимура включается в домашнюю работу, далее она становится похожа на всех остальных женщин, потом трудно различима, а затем и вовсе исчезает. Герой, приехавший в свой азиатский дом с женой, возвращается обратно один. Абсурдность достигает наибольшей остроты в финале рассказа: при первой встрече во дворе Тимура спрашивают, привез ли он фотографию жены, а при проводах напутствуют: «Фотографию в следующий раз не забудь»![23]
Автор заставляет читателя, ведомого все дальше и выше по неустойчивой литературной реальности, задаваться бесконечными вопросами, разгадывать, додумывать, придумывать. Что за личность этот Тимур? Приезжал герой в отцовский дом или только мысленно, может быть, в тяжелом сне, приближался к нему? Была у него жена или не было ее никогда? Стал ли он настолько чужим, что восточный мир поглотил его часть – чужую Валентину, как жертвенную овцу? Где были автор, герой и читатель: в физически-реальном азиатском доме или метафизическом пространстве Нового Завета, где состоялась встреча Блудного Сына и Отца? Сойтись ли когда-нибудь Европе и Азии, Западу и Востоку?
Попробуем дать обобщенную расшифровку «посланий» наших авторов.
Для творческой личности с интегрированной ментальностью ни одно из представлений о чувственной реальности и сверхчувственном мире, находящемся за пределами человеческого опыта и компетенции разума, не является окончательно оформленным. Сверхчувственный мир неких абсолютных смыслов и ценностей приобретает неустойчивое состояние, требующее усилий осмысления или вспышки озарения.
Художественное мышление авторов мифологизировано: в концептуальной глубине произведений текут потоки разрушительного Хаоса и созидательного Космоса; в мифологии укоренены цикличность «архитектурная» и цикличность внутреннего пространства произведений; мифологемы и архетипы пронизывают образность, развивают сюжеты и систему персонажей, создают и углубляют подтекст.
Поэтика строится на переходах – прямых, зеркальных, опосредованных – реальности в ирреальность, физики в метафизику. Изменчивыми становятся границы прозрачных и призрачных сфер жизни, неуловимыми – выходы в безграничные трансцендентные сферы.
Существенно различаются потенциал интерпретаций, закономерно присутствующий в каждом подлинно художественном произведении искусства, и постоянное ветвление и оборотничество смыслов в рассмотренных рассказах. Авторы втягивают читателя в игру смыслов и доверяют ему быть дирижером этой игры, надеясь на способность быть внимательным ко всему другому, будь то этнос, культура, религия, язык, человек. Каждый из вариантов прочтения допустим при сочетании некоторых условий; более того, разнонаправленные трактовки способны равноправно сосуществовать в восприятии одного читателя.
Приобретая масштабы философских категорий, «наклоны» смысла и поэтики могут становиться доминантой художественного мира отдельного произведения и творчества в целом. Но могут создавать только обертоны, резонансные призвуки, подобно тому, как возникает эхо, «особость» основного звука благодаря дополнительным инструментальным струнам у восточных инструментов.
С. Афлатуни, В. Муратханов, И. Одегов, А. Торк, С. Янышев – свои и другие в многообразии русской прозы ХХI века. В их художественных картинах мира воплощается сложное взаимодействие творческих потенций интегрированного мышления, которое умножает энергию в поисках гармонии этносов и культур.
Ссылки
1. Довлатов С. Интервью В. Ерофееву // Огонек, 1990, № 24
2. Санджар Янышев, Сухбат Афлатуни, Вадим Муратханов, Михаил Книжник. Групповой портрет // Арион, 2001, № 6
3. Муратханов В. Долгие жизни в самане // Муратханов Вадим Приближение к дому. Поэзия и проза. Алматы: Искандер, 2011.
4. Там же
5. Там же
6. Санджар Янышев. Оставить консьержу //Берег, 2013,№ 40
7. Санджар Янышев. Зоя-Зумрад. Маком об искуплении //Октябрь, 2013,№ 6
8. Там же
9. Там же
10. Одегов И. Культя, рассказы //Новый мир, 2014, №
11. Там же
12. Там же
13. Сухбат Афлатуни. Проснуться в Ташкенте //Октябрь, 2008, № 2
14. Там же
15. Там же
16. Там же
17. Сухбат Афлатуни. Бабушка № 20948 –Z //Новая Юность, 2012,№ 3
18. Алексей Торк. Пенсия //Дружба народов, 2006, № 7
19. Наш русский узбек из Таджикистана. Интервью А. Торка // МСН on-line http://www.msn.kg/showwin.php?type=newsportal&id=32022
20. Муратханов Вадим. Приближение к дому.// Муратханов Вадим Приближение к дому. Поэзия и проза. Алматы: Искандер, 2011
21. Там же
22. Там же
23. Там же
Статья перепечатывается в авторской редакции.





 Чудо 11/9 (1013)
Чудо 11/9 (1013) Псевдоним "Стрельников" (938)
Псевдоним "Стрельников" (938) Записки моряка (843)
Записки моряка (843)
