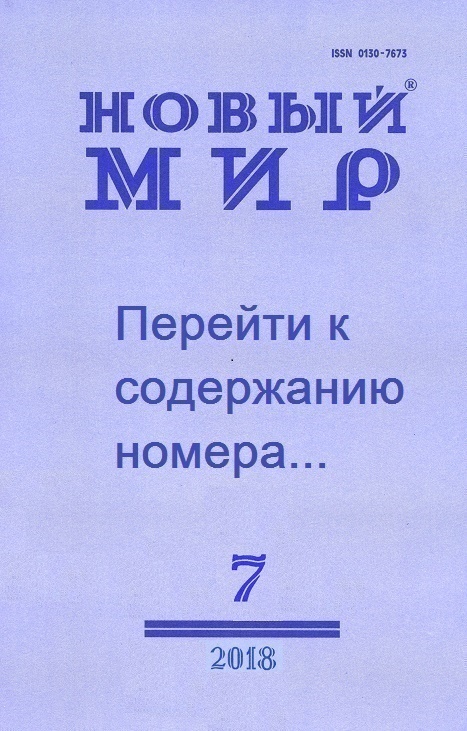
Выбор редакции
Проекты
Колонка опубликована в "Новом Мире", 2010, 8.
Трудно сказать, что символизирует Сцилла. Мало ли кто сидит и кусается.
Ответы студентов. Из собрания Е. Михайлик
В 2009 году издательство «Время» выпустило роман Михаила Балбачана «Шахта»[1].
Это скорее не роман, а серия новелл с несколькими сквозными персонажами, один из которых, Евгений Слепко, проходит путь от студента-практиканта до — в одной из последних глав — «начальника крупного главка». Роман, хотя и вошел в длинный список «Русского Букера» — 2009, особого резонанса не вызвал. Кажется, вот это — в длинном списке — и есть единственное о нем упоминание в прессе. Немногочисленные читательские отзывы в Сети разноречивы: кто-то пишет, что роман замечательный, кто-то — что так себе. Но почти все сходятся на том, что перед нами замаскированная под производственный роман метафора, где шахта выступает в роли этакого отечественного молоха, пожирающего человеческие судьбы (одна из самых страшных и безнадежных новелл в этом смысле — «Муха-Цокотуха», повествующая о судьбе симпатичной и доверчивой женщины-машинистки, ослепшей от непосильной работы и равнодушия обожаемого ею «начальства»). Цитирую одну из самых вдумчивых рецензий — отзыв Владислава Женевского на сайте книжного интернет-магазина «Лабиринт»:
«Если подходить к „Шахте” легкомысленно, поверхностно, то совсем нетрудно погрязнуть в море технических подробностей и всевозможных примет советской эпохи, не разглядев за ними ни авторской иронии, ни своеобразия персонажей. Тематически книга вызывает ассоциации с [романом] „Жерминаль” Эмиля Золя, однако роман французского классика заметно эмоциональней и мелодраматичней — и, разумеется, у двух этих полотен совершенно разный посыл».
О посыле «Шахты» я уже сказала выше. Основное затруднение при знакомстве читателя с романом вызывает не посыл, а именно стилистика, по поводу которой все тот же Женевский сдержанно замечает:
«Стилистически „Шахта” выдержана в традициях основного потока советско-российской реалистической литературы. Хотя достоинства романа оценит и непритязательный читатель, все же огорчает, что выбранной манерой повествования автор заведомо отдалил от своего творения несколько поколений любителей литературы».
Иными словами, не соцреализм по сути, но соцреализм по стилю, своеобразный памятник ушедшей эпохе. Впрочем, «имперский стиль» сейчас входит в моду (что нормально — от фактического, не номинального краха СССР нас отделяет уже целое поколение, а в моде, как известно, господствуют тридцатилетние цик-лы). «Соцреализм», однако, хотя и «соц», но все же «реализм». «Шахта» — роман вполне реалистический, полный точных профессиональных подробностей, что неудивительно: автор — сын горняка Якова Ивановича Балбачана (ему и посвящен роман) — знаком со спецификой горного дела не понаслышке.
Тем удивительней, что на ресурсе fantlab.ru, вообще-то обозревающем фантастику, появляется отзыв постоянного колумниста и обозревателя, выступающего под сетевым именем baroni, рецензента опять же вдумчивого и непредвзятого:
«Удивительное дело, что „Шахту” вообще кто-то прочел. Но вот выдвижение этого романа на „Русский Букер” — 2009 мне представляется вполне естественным.
„Шахта” — действительно незаурядное, неординарное произведение. <…>
Роман вполне соответствует своему названию. Это история одной Шахты и история десятков персонажей, день за днем, до конца отдававших себя Шахте — равнодушному и жестокому божеству. Действие романа начинается в 1920-е годы и завершается в канун 40-й годовщины Октябрьской революции, т. е. в 1957 году. Получилась вполне себе реалистичная книга, которая читается на одном дыхании. <…> Но я никогда не стал бы писать здесь об этом романе, если бы он оказался просто добротным реалистическим произведением.
Весь фокус данного романа заключается в последней главе. Эта самая последняя глава переворачивает все с ног на голову. Это даже не сюжетный поворот, а сюжетный взрыв. После заключительных строчек ты начинаешь понимать, что на самом деле прочел великолепный мистический роман. Или мистический триллер. Весь реализм оказывается сплошной обманкой, и роман тут же хочется перечитать еще раз, другими глазами. Словно совсем другую книгу».
Не могу сказать, что я, как baroni, прочла книгу «на одном дыхании». Однако рецензент прав — последняя глава, немного напоминающая бажовские уральские сказы, вполне мистическая. Тут и роковая любовь барина к прекрасной жене зверовидного шахтера, и романтическая профессия смертника-выжигальщика[2], и страшные предчувствия («сама Смерть в этой клятой шахте сидит»), и мистический страх шахтера перед забоем, и превращение ревнивца-женоубийцы Шубина в «Черного углекопа»…
«Сгинул, значит, Шубин, а по поселку жуткие слухи поползли, будто видели его в заброшенных выработках и глаза его горели при этом зеленым огнем. Якобы грозил он шахтерам костяным пальцем и тут же пропадал. <…> Уже открыто в поселке болтали, что Шубин под землей окончательно черной шерстью оброс, рога и копыта у него, подстерегает он отбившихся шахтеров и кровь ихнюю пьет. <…>
И посейчас, когда такое происходит (взрывы, пожары. — М. Г.), старые люди всегда говорят: „Это Шубин играет!” А какой такой Шубин, уж и не помнит никто».
Шахта вообще дело мистическое — все, что связано с подземным, подземельным миром, приобретает дополнительный мифологический смысл, и если бы Балбачан выбрал в качестве «нечеловеческого героя» своего романа не шахту, а, скажем, станкостроительный завод для рассказа о том, как, согласно реплике того же baroni, — «люди создают себе идолов. Из вполне материальных, бездушных предметов, понятий и т. п. А затем эти идолы оживают и начинают пожирать людей. Только этого никто не замечает», ему потребовался бы, полагаю, иной инструментарий.
«Шахта», повторюсь, прошла почти незамеченной. «Даже обозреватель „Афиши” Лев Данилкин, — пишет baroni, — который, кажется, знает о современной литературе практически все <…> роман Балбачана не читал».
Однако Лев Данилкин читал другой роман. И даже назвал его открытием прошлого, 2009 года.
Роман тридцатилетнего жителя Днепропетровска Дмитрия Савочкина[3] тоже о шахте (впрочем, дело у него происходит «здесь и сейчас»). Но не только о шахте — о той прогнувшейся, мифологизированной реальности, которую создает вокруг себя шахтерский город. Отчасти — по Савочкину — эта измененная реальность одновременно и формируется наркотиками, и формирует среду, выжить в которой можно лишь в измененном состоянии сознания:
«Ключевая метафора поэмы[4] — наркотики: во-первых, единственный способ существования в этих условиях, во-вторых, фундамент государства. Государство и наркотики взаимосвязаны и взаимозависимы, государство контролирует оборот наркотиков, потому что это единственно работающий рычаг управления населением, которому не могут предложить экономических мотиваций; людьми, которые оказались в мире, который невозможно переносить без наркотиков. Именно из такого расклада возникают сюрреалистические эпизоды — достоевщина, гоголевщина, гофмановщина — раздвоения; и даже наркотик шахтерский называется „нацвай” (на цвай, на двоих)»[5].
Здесь тоже есть свой призрак шахты, свой Шубин — впрочем, нам предлагается другая версия этой легенды. На самом деле, как пишет Лев Данилкин, в XIX веке, чтобы определить, есть ли в шахте метан, одного из шахтеров заматывали в несколько шуб и посылали вперед со свечкой — чтобы взорвался один, а не все. Оттого и «Шубин» — закутанный в шубы.
Обе книги вышли в 2009 году, одна во «Времени», другая — в «Астрели», поэтому странные пересечения — и шахтер-трус, боящийся своей работы, и появление на страницах страшного Шубина — следует отнести к тем причудливым «резонансным» совпадениям, которые порождаются общим информационным полем.
Но роман Савочкина несравненно более жесткий, даже брутальный. Недаром Данилкин говорит о безусловном влиянии на Савочкина «Бойцовского клуба» Чака Паланика (Савочкин как раз и переводил «Бойцовский клуб»). Я бы добавила сюда еще и уже ставший хрестоматийным роман Филиппа Дика «Помутнение» с его потерявшим самоидентификацию, отчужденным от самого себя героем.
Маркшейдер, пишет Лев Данилкин, — «тот, кто отвечает за проведение подземных коммуникаций, шахт», иными словами — «подземный, адский то есть человек. Ад — это когда, — вообще-то, XXI век и покрытие в твоем городе обеспечивают три оператора мобильной связи, но ты добываешь уголь так, как это делали в XIX веке. Ад не только под землей; общество деморализовано, заточено под самоуничтожение и переживает кризис самоидентификации»[6].
Читатели (не все) на форумах и в блогах ругают Савочкина за чернушность, за подражание Чаку Паланику, за дискредитацию доброго шахтерского имени, за излишнее внимание к психотропным средствам, в конце концов, просто за незнание горного дела. Хотя, подозреваю, Савочкин и писал не производственный роман, а роман-метафору, «поэму», по словам Льва Данилкина.
Главное, однако, не в этом. Ключевое слово было уже сказано выше. Это слово «ад». Или «близость ада».
«Концентрацию обеспечивает „донбасский нуар” — эстетика местности, вынужденной жить между безднами, от запоя до забоя, с ледяными ветрами сверху и адской жарой внизу. В этом нуаре герой мёртв уже по прибытии, но не может уйти, пока не проникнет в тайну: что лежит в основании этого поганого жизнеустройства. Особый ракурс даётся за счёт постоянного присутствия подземного мира, близости настоящего ада. Темнота, теснота, невозможность дышать, тяжкий труд в непреходящей опасности — при понимании, что другой участи для тебя нет. Здесь родятся и живут самые дикие легенды, этим кормится множество разных духов. В таком контрастном свете можно открыть много странного», — пишет в своем блоге обозреватель Валерий Иванченко.
С некоторыми поправками (например, вычеркнув слово «донбасский») этот отзыв вполне можно приспособить к еще одному роману на «подземельную» тему — к «Столовой горе» Андрея Хуснутдинова. Вышедший в рижском «Снежном коме»[7] в 2007 году, этот роман в 2008-м вошел в лонг-листы крупнейших национальных литературных премий — «Русского Букера» и «Большой книги» — и был переиздан в «ЭКСМО» в 2009-м. Лев Данилкин, вообще очень чуткий к тенденциям и векторам современной литературы, пишет о нем (я уже приводила это его высказывание в «Книжной полке»):
«„Столовая гора” имитирует стандарты романа „нуар” — одинокий сыщик в чужом городе, предоставляющем массу поводов поднять воротник и расстегнуть ширинку. <…> Только вот практически на каждой странице к обычным романным механизмам подключаются какие-то дополнительные, подрывающие реалистичность происходящего. Более-менее правдоподобная картина осыпается, и события соответствуют логике уже не реальности, а сновидения; роман очень скоро оказывается „не-тем-чем-кажется”». Столовая гора — и шахта, и одноименный городок вокруг нее. Шахта эта, сердце и ядро жизни странного городка, — сущность весьма загадочная. Здесь тоже «родятся и живут самые дикие легенды», которыми «кормится» множество разных духов: здесь, по слухам, обитает в глубине страшное
существо — все то же Черный углекоп, здесь, возможно, находится источник вечной молодости, здесь есть странные, возможно бессмертные, акционеры, двойники и странные совпадения.
Герой «Столовой горы» — сыщик Аякс — тоже «мертв по прибытии» (напомню, так назывался знаменитый фильм-нуар 1950-го, режиссер Рудольф Мате; ремейк 1988 года, режиссеры Аннабел Дженкел и Рокки Мортон). В начале романа он, безусловно, человек, но вот в конце? То ли зомби с «промытыми мозгами». То ли собственный двойник или предок. То ли подделка под человека, страшное чудовище, принадлежащее к клану чудовищ, охраняющих шахту.
Но дело даже не в этом, а в том, что на всем протяжении романа нам предлагаются несколько равно доказательных и равно малоправдоподобных версий, что, собственно, есть такое Столовая гора. Истощившаяся золотая жила, годная лишь на то, чтобы спекулировать акциями? Не истощившаяся золотая жила, где тайком продолжают добывать золото? Место, куда прячут золото? Или все это для прикрытия, а на самом деле Столовая гора — курорт для избранных, источник вечной молодости? Или, что тоже правдоподобно, именно здесь находится вход в Ад?[8]
Реальность постепенно отменяется — начавшая колебаться уже в «Шахте», она подменяется наркотическим бредом в «Марк Шейдере» и оборачивается «ветвящимися версиями» в «Столовой горе»[9].
Тут нельзя не коснуться еще одного романа, или, верней, проекта — за первой книгой последовали другие, причем разных авторов, но объединенные общей темой и миром.
Роман Дмитрия Глуховского «Метро 2033», впервые вышедший в 2005 году в «ЭКСМО» (серия «Русская фантастика») умеренным докризисным тиражом 8000 экземпляров, в 2007-м был переиздан издательством «Популярная литература» и стал одним из хитов «масскультуры» десятилетия. Отчасти, конечно, благодаря энергичной рекламной кампании, но все на рекламную кампанию не спишешь (насколько я помню, одновременно с «Метро...» не менее энергично рекламировались и другие книги). Скорее можно сказать, что «Популярная литература» выбрала удачный объект для приложения своей энергии.
«Они живут в московском метро. Наверху — зараженная радиацией территория, внизу — глубокие подземелья, в которых обитает ужас. Людям, выжившим в глобальном катаклизме, остались лишь обитаемые станции-поселки и необитаемые перегоны, связывающие станции между собой. Существовать в таких условиях тяжело, но выбора нет. Артем, житель „ВДНХ”, вынужден отправиться в рискованное путешествие по московскому метро, чтобы спасти свою станцию от нашествия мутантов. Монстры и мародеры скрываются в темноте туннелей, звучат во мраке голоса мертвых, неслышно перемещается за стенами гигантский червь. Автоматные очереди то и дело разрывают тишину. Путешествие будет опасным...» — гласит аннотация первого издания «Метро 2033».
Роман популярен именно среди широкого читателя, причем в основном среди молодежи. «Фэндом» же, представляющий сообщество фантастов и любителей фантастики, встретил его несколько нервно, но в целом благосклонно. «Конечно, все это намеренно нереалистично. Тысячи человек не могут прокормиться грибами и свиньями, которых тоже непонятно чем кормят. За 2 — 3 поколения не могли появиться принципиально новые виды, вроде мутантов с поверхности. Атомный взрыв не бывает такой силы, чтобы на сотни километров вокруг Москвы вымерли все люди (но при этом уцелели и мутировали животные). Это условия игры, которые нужно принять, если вы согласны играть с Глуховским…» — пишет на ресурсе «Фантлаб» рецензент под сетевым именем Robin Pack. Аналогичны и отклики на выход английского перевода «Метро…» некоторых западных рецензентов[10]. Глуховского упрекают в недостоверности мира, в неразработанности сюжета и характеров, во вторичности (сам постатомный квест невольно вызывает в памяти «Долину проклятий» Роджера Желязны). Однако читают. «Метро...» — один из самых успешных проектов последних лет.
Дело в том, что для России и сопредельных стран Московское метро представляет собой исторически сложившийся, многозначный и притом в высшей степени сакральный символ — от «подземных дворцов» до «секретных тоннелей», а тут на узнаваемые названия и реалии накладывается еще и постапокалиптическое «остраннение», благодаря которому читатель смотрит как бы новыми глазами на знакомые станции. Недаром те же фэндомские отзывы отмечают «атмосферность» романа.
«Это <…> почти ощущаемые на лице тоннельные сквозняки <…> общее трагическое настроение, холодок по коже в описаниях непонятных явлений в тоннелях и новых форм жизни, обилие московских городских легенд, вписанных в полотно романа, как связанных с метрополитеном, так и с самим городом, и некоторые даже — общероссийского масштаба. <…> После прослушивания книги начинаешь по-новому осознавать красоту нашего метрополитена, проходя по станции нет-нет, и посмотришь на барельефы или на расположение пересадок»[33], — пишет на том же «Фантлабе» рецензент Lost.
Не менее важно для нас и то, что роман изобилует «подземельной мифологией» в ее современном изводе, столь любимом «желтой» прессой. В метро, согласно этой мифологии, можно найти все, что угодно: крыс-мутантов, просто мутантов, звероподобных хтонических существ, еще одно — «тайное» — метро, «Черных спелеологов» и даже, по слухам… опять же потайные пути в Ад.
Что же получается? Шахта досоветских и советских времен, современный забой, загадочный иноземный рудник, тоннели Московского метро оказываются локусами концентрации непонятных, грозных, противоречивых и страшных сил, перешейком между нашей реальностью и «нижним миром».
Будь я исследователем, отслеживающим преломление действительности в массовом сознании, я бы насторожилась. Появление сразу нескольких романов
(и мейнстримовских, «серьезных», и жанровых), посвященных подземельной теме, — симптом тревожный. Хтонический, подземельный мир отличается от нашего, срединного, по меньшей мере по двум параметрам. Во-первых, отсутствием дихотомии «правда — ложь», отсутствием одной бесспорной реальности, вместо которой — ветвящееся дерево одновременно реализуемых возможностей. Во-вторых, отсутствием линейного времени. И если в «ЖД» Дмитрия Быкова Россия все-таки, хотя и с большими потерями, прорывается в линейное, историческое время из времени мифологического, циклического, то, судя по обилию «подземельной» символики и тематики, нынешнее массовое сознание, уловленное через индивидуальное авторское восприятие, рассматривает даже такой, мрачноватый, эсхатологический вариант мира «ЖД» как утопический.
Наверное, слишком смело будет утверждать, что общество (по крайней мере, посредством порожденных его же собственным сознанием фантомов) рассматривает безвременье, мифологическое время как допустимый вариант каждодневного существования. И вот на каком странном феномене я хочу еще остановиться.
Точно так же спонтанно, без всякого внешнего побуждения, в отечественной литературе возникла тема своеобразных хтонических существ — псоглавцев.
Когда я писала свою «Малую Глушу» (с которой могли познакомиться читатели «Нового мира»), где фигурируют песьеголовые проводники на тот свет, за Реку, я не знала, что практически в то же время Борис Херсонский пишет стихотворение о святом Христофоре, который «был <…> чудовище, псоглавый урод, / сиречь имел песью главу, и на сей главе / шерсть, подобную высохшей пустынной траве. //
И еще ходит слух, был он египетский бог. / Анубис, вернее сказать, отвратительный бес…»[11], а Андрей Василевский — о том, что «мир слишком долго идет к концу / и если ему не помочь / люди с песьими головами / успеют порыться в наших костях»[12].
У Херсонского псоглавец — уверовавший в Христа бес — принадлежит мифологическому прошлому; у Василевского — наследник погибшего человечества, мутант, принадлежащий не менее мифологическому будущему. Хтонические псоглавцы, таким образом, становятся одновременно символом прошлого и будущего, иными словами — циклического времени.
В мифах и легендах псоглавцы играют самую разную роль. Иногда они — просто воплощение чуждого, представители «иных народов», нелюдей, живущих за краем обитаемого мира. Псоглавцем, согласно былинам, был русский богатырь Полкан. Псоглавцем был, по апокрифической версии, святой Христофор, перенесший через реку на своем плече Младенца Христа. Псоглавцы обычно отличаются гигантским ростом и нечеловеческой силой. И не только физической: «загранич-ным» псоглавцам приписывается обладание неким мистическим, магическим знанием, они понимают язык животных и знают целительные свойства трав. Но в то же время они и людоеды, человекоубийцы. Святой Христофор, прежде чем стать святым, служил дьяволу. Но главное — это «унаследованное» псоглавцами от их прототипа Анубиса качество: они проводники в царство мертвых, посредники между мертвым и живым.
Упоминания «песьеголовых богов», встречающих душу «в каменных палатах» посмертия, есть и в многократно цитируемом в Рунете стихотворении Бахыта Кенжеева. Да и вообще псоглавец — достаточно популярный персонаж Рунета, ему посвящают форумы и статьи. Не бешено популярный, как Ктулху, однако вот что интересно: мода на Ктулху потихоньку спадает, а на псоглавцев, кажется, растет. Тяга массового сознания к Древнему Ктулху, по мнению некоторых исследователей, символизирует подсознательную тягу человечества к хоть и убийственным, но переменам. И хотя в этой смертоубийственной тяге нет, честно говоря, ничего хорошего, фигура Ктулху принадлежит, как ни странно, линейному времени, где есть свои концы и начала. Псоглавцы — профессиональные проводники в царство мертвых — уводят человечество во время мифологическое, замкнутое, точнее сказать — в безвременье.
Псоглавцы в последние несколько лет стали персонажами компьютерных игр и фантастических произведений, упоминания о них можно встретить у отечественных писателей Елены Хаецкой, у Г. Л. Олди (Дмитрия Громова и Олега Ладыженского) в «Реттийском цикле», у Л. Кудрявцева… Однако есть они и у Умберто Эко («Баудолино»), и в странном психоделическом романе Дж. Нуна «Вирт»…
Понятное дело, что началось это не сегодня — и на Западе раньше, чем у нас. Зато у нас, как всегда, раз начавшись, процесс пошел бурной и плотной волной, а любая отсылка к мифологической фигуре псоглавца, кажется, становится модной.
Значит ли это, что вообще вся европейская цивилизация ощущает некий зябкий холодок, тянущий оттуда? В романах о «Плоском мире» Терри Пратчетта, вообще очень чуткого к массовым страхам и ожиданиям, в «Пятом слоне» и еще не переведенном у нас «Thud!» («Бац!») фигурируют глубинные гномы, никогда не поднимающиеся на поверхность и презирающие солнечный свет (вместо «просветлен» они говорят «протемнён»). Эти гномы — носители отживающих, но цепких традиций, трансляторы страха перед переменами — неожиданно становятся опасностью для линейного времени наземного мира, поскольку пытаются столкнуть реальность в мифологическое, циклическое время, пусть даже и ценой развязывания конфликта, в котором погибнут тысячи их же соплеменников.
Их можно понять. В подземельном мире чтят традиции — поскольку ничего, кроме традиций, нет. В подземельном мире младшие уважают старших — опыт старших не получает опровержения в ходе исторического прогресса, поскольку отсутствует сам прогресс. В подземельном мире по-своему безопасно. Там нет смертей, поскольку нет рождений. Нет конфликтов, поскольку нечего делить, нижний мир демократичен в том смысле, что равно обещан всем. А если конфликты и случаются, то игрушечные — как в компьютерной игре, где погибшего героя можно — с незначительными потерями боеспособности — воскресить и вновь отправить блуждать по подземельям, истребляя раз за разом воскресающих чудовищ.- ∞ - ∞.
Похоже, он, этот подземельный мир, входит в моду.
Другие статьи "Фантастика/Футурология" можно найти по ссылке.
[1] Б а л б а ч а н М. Я. Шахта. М., «Время», 2009, стр. 832 («Самое время!»).
[2] В ы ж и г а л ь щ и к — смертельно опасная шахтерская профессия, его обязанностью было выжигать скапливающийся в выработках метан. Если метан взрывался, выжигальщик с высокой степенью вероятности погибал. Неудивительно, что именно выжигальщики стали основными персонажами шахтерского фольклора, — см. ниже.
[3] С а в о ч к и н Д м. Марк Шейдер. М., «АСТ»; СПб., «Астрель-СПб.», 2009.
[4] По Л. Данилкину, «Марк Шейдер» именно поэма — как «Мертвые души» («Поэма, настоящая поэма в прозе, не то плач, не то мистерия-буфф: мир описан уже — взорвавшийся, расколотый, состоящий из мелких кусочков реальности, при этом ощущение единства и тесноты ритмического и смыслового ряда — несомненное, здесь и сейчас, ровно на столько, сколько длится звучание текста») (Д а н и л к и н Л е в. Шубу ем. ).
[5] Там же.
[6] Там же.
[7] О романе А. Хуснутдинова см. также: Книжная полка М. Галиной. — «Новый мир», 2009, № 4.
[8] Подробную и внимательную рецензию на «Столовую гору» пользователя blog_bog_a см. в сообществе ru_books
[9] «…разгадки все равно нет, есть лабиринт ветвящихся версий, замкнутых друг на друга». — А н д р е й С т е п а н о в. «Прочтение» от 17.08.2009
[10] «Легко понять причины популярности этого романа в России и определить его целевую аудиторию: если бы вы читали его, ежедневно пользуясь московским метро, несомненно, драматическое воздействие увеличилось бы десятикратно. <…> Однако его продвижение может быть ограничено только внутренним рынком. Для иностранных читателей многие из его проблем покажутся устаревшими…» (Michael Froggatt, 2010). Впрочем, у тех же англичан есть свой популярный «подземельный лондонский» роман — «Задверье» Нила Геймана.
[11] Х е р с о н с к и й Б о р и с. Новейшая история Средневековья.
[12] В а с и л е в с к и й А н д р е й. Все равно.







 Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост»
Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост» Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год)
Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год) 8 июня Александр Лазарев
8 июня Александр Лазарев
