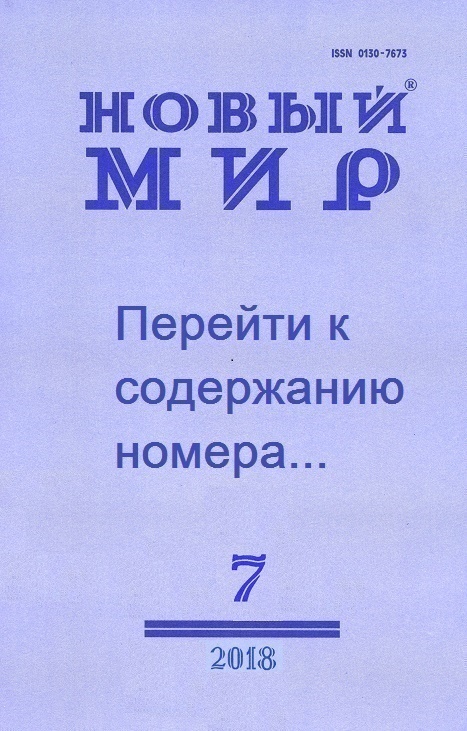
Выбор редакции
Проекты
До полудня в Париже или встреча с Буниным.

Сегодня, пожалуй, один из важнейших дней в моей жизни, мне предстоит встреча с Иваном Алексеевичем Буниным, именно с этой целью я впервые в Париже. О, Париж – город консервативных либералов и кокетливых циников, парфюмеров и цветочниц, «Статуи Свободы» и «Пьедестала Революции». Европейский «Город Солнца» и «Сердце» русской эмиграции.
О, Париж!…
Париж - друг мой - как манерный красавец кокетливую судьбу, уже ждет меня и я, не мешкая, лягушечьими прыжками, спешу на улицу Жака Оффенбаха, параллельно авеню Моцарт в полюбившемся русским эмигрантам, районе «Пасси» и робко барабаню в дверь дома номер один – дробь – и сухая поступь, я слышу, усиливается по нарастающей. Это встречает мою милость «замечательный наш соотечественник» (официоз желает фразы) Иван Алексеевич Бунин. Дорогой читатель, я должен быть честен с Вами, посему со свойственной мне не скромностью, коей я стучусь сейчас в эту дверь, сообщаю, что организовать интервью с Иваном Алексеевичем, мне было предложено дважды – в 1925 и 1930. Но, увы, моя машина времени сработала только на 1932… мы времена не выбираем – прошу следовать за мной.
- «Здравствуйте, Иван Алексеевич!» (Не каждый день встречаешь такого интересного человека, да еще не в свою эпоху). Мне стало неловко, что прямо с порога обрушился я на него своим звонким приветствием. Но Хозяин дома выглядел вполне дружелюбно, по гостевому, и сдержано, по старинному… Он простил мне мою неловкую назойливость и вида не подал, только свою крепкую, руку, сухую, как его поступь и грусть.
- «Здравствуйте…» тихим голосом ответил г-н Бунин и помедлил, продолжая стоять в дверном проёме.
- «Даниил Каплан, я проездом в Париже и связывался с Вами через посыльного на предмет встречи с Вами, и Вы, ну то есть… вроде бы...» (И я замямлил-мялся-мяк).
- «Да. Помню. Утром был посыльный, с письмом и сообщением от Вас. Прошу. Входите»
Он уступил мне дверной проем и позволил пройти в глубину «небольшой, скромно обставленной и даже неуютной» гостиной.
- «У Вас уютно» - протянул я озираясь.
- «Да, Даниил. Теплый и ясный апрель»
- «Иван Алексеевич...»
(Скованно поклонился я, жалея, что забыл озаглавить комплимент именем – какой конфуз, наверное…)
- «Позвольте, Даниил, я на минуту оставлю Вас».
- «Да-да. Конечно!»
Иван Алексеевич заглянул в залу, тихо попросил разрешение гостей оставить их на некоторое время одних и, получив их согласие, медленно, как старый книжник, повернулся. И плавно провел под прерывистый топот оп пол его лакированных, сверкающих туфель в свой скромный лично-собственный кабинет.
Его внешняя сухость крахмального воротничка на моих глазах обернулась каминным теплом спокойствия под плотным халатом заботы. Для полноты картины не хватало только доброго пса у хозяйских ног.
(Я жалел, что не имел возможности увидеть гостей, лишь половину комнаты, с пустыми стульями, полым паркетом и полными полками).
Ленивый кивок г-на Бунина, я принял за приглашение войти в его кабинет.
- «Садитесь, Даниил.»
Повелительно обратился ко мне Иван Алексеевич и повел правой рукой в сторону письменно стола. Это был жест наивысшего гостеприимства. Любой, стоящий читатель знает, что для писателя значит сесть за письменный стол. Я сел и, на сей раз, действительно скромно расположил на краешке стола ученическую тетрадь, ручку, руку, с нетерпеливой дрожью пальцев, ожидающих начала разговора. (Главное начать, а там уж как пойдет).
Г-н Бунин расположился рядом, в кресле, скрестив на коленях ноги и руки на груди.
Он смотрел на меня и ожидал разговора. Оценивал, должно быть. Мы оба ждали. Une минута. И я решился. Хватило духу. Решился. Поднес руку к уху. Почесался. Перевел дух. Устроил кисть на одно колено. Кашлянул.
И выдохнул.
- «Здравствуйте, Иван Алексеевич».
(Он сдержано улыбнулся и, приветствуя мою решимость, склонил голову на бок.)
- «Благодарю Вас, Иван Алексеевич, что уделили мне время».
(Мой собеседник повторил свое действие головой, и худое его лицо вновь наполнила светлая улыбка)
- «Как Вам Париж, Иван Алексеевич?»
(Я чувствовал, что без должной поддержки провал не минуем и мой собеседник это понял и перенял инициативу).
- «Вечерами бывает сыро…»
(Я молча наблюдал за напряжением памяти из-под суровых бровей моего собеседника и испытывал на себе его взгляд, острый, как уголки рта, которые больше не сглаживала улыбка).
- «Я еще помню вечера, в Москве, на углу Спиридоновского и Гранатного переулков, церковь, где венчался Пушкин, дом моего друга Бориса Зайцева, липы и тополя под окном. Зал ожидания вокзала, провинциальные города… (И он замолчал, будто разом забыл все-все, что только что точно помнил): «А Вы, мой друг, откуда прибыли к нам?».
- «Я студент Литературного, я учусь рядом с тем местом, о котором Вы только что говорили…»
- «Говорил? Ах, да… шумное было время». И он замолчал, теперь уже глубоко и, видно, надолго.Я понял, что мой собеседник уже достаточно помог мне, нашел в тополином пухе воспоминаний общую нам топографию. Я знаю, что у него тоже была своя машина времени, не очень исправная, не точная, как моя, но много более мощная, и обо мне он знает достаточно.
- «Вы любите Россию?» уверенно заговорил я, поняв, что Иван Алексеевич ждет разговора о русской душе, а не французских духах, женщинах или возвращениях.
- «Хотите, чтобы я любил Россию, столица которой — Ленинград, Нижний (Новгород – Д.К.) — Горький, Тверь — Калинин?»
- «Да-да, рассмеялся я, горячо поддерживаю» (и подавился всплеском эмоций под жестким взглядом собеседника):
- «Иван Алексеевич, а что для Вас Россия?»
- «Дождик. Высоко в небе облако, проглядывает солнце, птицы сладко щебечут во дворе на ярких желто-зеленых акациях «…» Лесок Поганое, — глушь, березняк, трава и цветы по пояс, — и как бежал однажды над ним вот такой же дождик, и я дышал этой березовой и полевой, хлебной сладостью»...
На этой высокой ноте в кабинет вошла милая женщина, я не узнал ее, и принесла два стакана горячего чая с паром, заботливо поставила между нами на стол и не говоря ни слова удалилась… Не думаю, что она была рада видеть меня.
- «Благодарю Вас, Вера Николаевна». Привстав, поблагодарил г-н Бунин свою жену: «Может еще хлебушку?»
- «Хлеба нету» не поворачиваясь, ответствовала Вера Николаевна.
(Семейные сцены мне всегда интересны, с детства подсел на них, как на наркотик, но сейчас я подавился этой жаждой бульварного чтива и вернулся к серьезной литературе).
- «Спасибо за чай».
- «Прошу, угощайтесь, я счел его более всего подходящим нашему общению».
- «Вы любите вино?»
- г-н Бунин усмехнулся, «По этому адресу ресторан «Прага», а в настоящем моем – гастроном на углу, да Чай» (Но по всему видно было, что он «воспитан на лучший манер», но умеет изображать «человека из ресторана»).
- «Скажите, а как Вы оцениваете текущее положение вещей в России?»
- «Что Вы называете вещами?»
- «Я имею ввиду, политику, общественную жизнь и вообще…»
- «Политика мне скучна… что до Правительства – оно наша беда, что до общественной жизни… Я переписывался с Горьким, знаю, он ценит меня. Я этого не ощущаю...».
- «А Вы выписываете газеты?»
- «Чуть не весь день уходит на газеты, которых я покупаю штук с тысячу. И ото всего того, что я узнаю из них и вижу вокруг, ум за разум заходит, хотя только сбывается и подтверждается то, что я уже давно мыслил о святой Руси»
На последнем слове, Иван Алексеевич, даже привстал. И кашлянул, прикрывая рот ладонью. Мокрый кашель с хрипотцой отдавался в груди мягким характером, столь искусно скрытым сейчас за сухим его словом, тоном, телом, что и во мне похолодело, а вдруг я сплю? И я кашлянул. И мы отхлебнули по глотку горячего чая. И меня даже обжог медный подстаканник. И я не проснулся. И мы продолжали. («И» - вообще лучшая буква, за ней всегда стоит продолжение и так прекрасно, когда имя человека начинается именно с этой величественной и простой, как шаль, шестой буквы русского алфавита, и «Ш» - прекрасна, за ней полнота общения и не заискивающая ти-шшш-ина…).
- «Иван Алексеевич…» - дернулся я задать еще вопрос, но он уже говорил, позволяя раскрыться своему темпераменту.
- «Формальное мастерство! Сидящий корнями в недрах своего класса! Уж срубленное под корень! Если я срублен как бесплодная смоковница, то почему же в России продолжают регулярно выходить мои книги?».
Я молчал, не знал что ответить...
- «А что Вы любите читать?» с наивностью в голосе спросил я, переводя разговор на соседние рельсы.
- «Флобера, Пьера Лоти, Чехова и Льва Николаевича — читаю без перерывов почти всю жизнь, Тургенева, Алексея Толстого»… Мой собеседник вновь молчал, пошла еще одна минута. Я понимал, что больных тем у него много, и я отступил в черноморский отлив побережья Ялты, Одессы…
- «Я люблю Ялту, ту 99-го, помню встречу с Горьким»… г-н Бунин говорил медленно, больно, много молчал. Я начал новую тему:
- «Иван Алексеевич, а есть ли молодые авторы симпатичные Вам?» (Я решил дать ему возможность отвечать, как ему легче: либо о тех, кому он симпатизирует; либо о тех, кто ему; либо ни о ком-то конкретно).
- «Одесса мне вспоминается сосредоточенная, работающая без всяких надежд»… (Для себя я начал понимать, что Иван Алексеевич, человек железного стержня и договаривает, как догорает восковая свеча, - до конца). Я вспомнил бабелевскую Одессу, 1935-ого года, ровесницу моего артефакта, раритета, журнала «Новый Мир» за тот же год, подаренный мне за победу эссе к девяностолетию журнала, страницы его не одряхлели, но запах тлена того времени, сдуло с его страниц, как пыль, и теперь он звенел под стеклом, на книжной полке, фужером, чокающимся бокалом красного вина, голосом Бабеля: «В 1935-ом году, по инициативе товарища Сталина, положено начало больших работ по благоустройству Одессы...» - голос Бабеля дрогнул и пролился на скатерть белого бархата голоса Бунина:
- «В Одессе меня навещал Валентин Катаев. [Для несведущих, поясняю: брат Петрова Евгения, будущий издатель журнала Юность, в 1961-ом снятый за публикацию повести «Звездный билет» Аксенова - Д.К.] Валентин - человек незаурядного таланта, хотя он циничен, я знаю, он еще восхитит нас сильной работой».
Мне захотелось предвосхитить лихую известность Катаевского «Паруса», но то будет позже, как и другие радости и разочарования моего собеседника в его, по тем временам, долгой и полной жизни, от Российского общяка сквозь Одесское ожидание в Парижскую жизнь. Впрочем, не к ночи будь помянута моя глупость, но именно такое чувство – беспомощности и глупости поселяется в человеке тогда, когда ему вдруг начинает хотеться говорить другому о его будущем, как художнику - готовить набросок своей картины жизни: в абсолютной тишине настоящего, мелкой дрожью, ретушировать в чужое будущее неизреченные мысли о себе. Да еще, в довесок, разделяя времена, весовыми гирьками междометий, на «те» и «эти». Тем временем, мой собеседник продолжал, и я внимал, с глухим разочарованием выталкивая собственные мысли и уплотняя память для большей вместительности внутреннего уха:
- «Я приятно поражен первыми книгами Михаила Шолохова – «очень талантливо» хотя много излишней грубости». И Иван Алексеевич выжидающе вгляделся в мои растерянные глаза, выжигая на моих щеках густой румянец.
- «Иван Алексеевич, скажите, пожалуйста, что-нибудь, что Вы думаете, о нашей литературе» сбивчиво начал я восхождение обратно в наш диалог.
- «О «Вашей» я, к сожалению, ничего сказать не могу, не читал»
(Я чувствовал, что Иван Алексеевич не любит отвлечения на другие, особенно внутренние мысли, в момент живого разговора. Этот человек глубоко и бережно хранил в себе дух тех, кто высоко ценили беседы. Я понял, что мне уже пора уходить, а может и приходить не следовало…) А беседы с ним, верно, я не осилил и оттого, с напором, уточнил.
- «В смысле, о нашей, российской, современной, с-с [советской я так и не выговорил] литературе?»
- «Даниил, теперь в литературе нашей глупость наполняет несметное количество произведений положительно как воздух — глупость невесомая, трудно даже передаваемая и тем более ужасная»
(Я почувствовал себя скверно, казалось, это обращено в первую очередь ко мне, ко мне - лично, ко мне – по имени).
- «Вы знаете, Иван Алексеевич, мне к глубокому сожалению, уже пора уходить».
- «Что же». – тихо ответил г-н Бунин.
(Он не сказал «жаль». Может и не специально, может я и ошибся, может и разговора не было. Может мне и не стыдно за себя? Все может быть...)
- «Иван Алексеевич, позвольте, напоследок, еще один вопрос?» (И я понял, что раздавил свою репутацию, как дохлую муху у окна. Не допил чай. И не договорил. Поспешности мой собеседник не любил и, очевидно, не принял такого оборота, но покорился моему решению, само время довлело над ним такими, как я, пошляками и он качнул подбородком… ).
- «Да, конечно».
- «У Вас есть вещь, которую бы Вы действительно хранили, как самое ценное, что у Вас есть?».
- «Да есть». Ответил Иван Алексеевич Бунин: «Моя пепельница».
(И тут я понял, что вот она стоит на столе, седая во фраке, в ожидании пепла, но он, собеседник мой, дымом себя не окуривал на всем протяжении нашей беседы, длиной в минуту, глубокий сон, я ожидал проснуться или транспортироваться в ноль на последнем слове).
- «Красивая пепельница» (Да, последнее слово, в моем исполнении, выглядело глухо).
- «Возьмите!» зычно ответил г-н Бунин и протянул ее мне крепкой правой рукой.
Конечно, я вежливо отнекивался, со свойственным современному человеку нежеланием брать что-то на память.
Г-н Бунин простился со мной и удалился в залу к своим достойным собеседникам и живому слову, его он и подарил мне на память, добрым пожеланием, рукопожатием и звуком удаляющихся шагов:
«Друг мой, в год Вашего рождение увидело свет мое полное собрание сочинений в четырех томах, какого не видела еще наша с Вами страна, жаль, не всё, как я просил, под моей личной редакцией. Крепко жму Вашу руку… Прощайте, Даниил!»
«Прощайте, Иван Алексеевич! С жаром опалил я свое горло, произнося прощальные слова, но услышал меня лишь Арбат. Мой крохотный кафетерий на углу Калашного и Большой Никитской, близ моего института; и церкви, где венчался Пушкин; и дома, где жил Горкий; и малой родины моего визави…
Таким я и запомнил его:
В пепельной дымке.
Сидящим. Седеющим.
Пьющим чай в дальнем углу стола…







 Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост»
Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост» Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год)
Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год) 8 июня Александр Лазарев
8 июня Александр Лазарев
