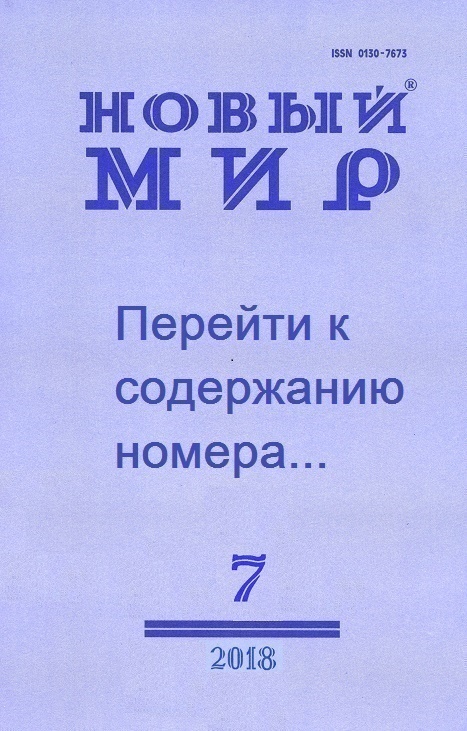
Выбор редакции
Проекты
Александр Марков
Об одной позитивной пародии на Пастернака
Георгий Голохвастов (1882--1963), глава Нью-Йоркского русского общества искусства и литературы, восхитился Пастернаком не напрямую, но посвятив “пастернаковский” сонет О.Н. Анстей, написавшей восторженную статью “Мысли о Пастернаке” в малотиражном мюнхенском журнале, экземпляр которого чудом дошел до Переделкина:
Тугой брезент небес промок от влажной ноши;
Как ипохондрик, день нечесан и небрит;
И дождь-рецидивист, запойный ипокрит,
Канючит голосом слезливого святоши.
Косая стрелка струй молотит макинтоши,
Как в бубен, в зонтик бьет, с размаху бередит
Ударами монет рубцы панельных плит
И мечет денежки прохожему в калоши.
А ветер, верткий шут, под хмелем натощак,
Хватает брызги с крыш в озябнувший кулак,
Чтоб вдруг швырнуть в лицо, как пригоршню горошин.
И город-водолаз сквозь колокол-колпак,
Как рыба, смотрит ввысь… Он тоже огорошен…
Как долго душ берет сегодня Пастернак.
Хоть перед нами, казалось бы, импрессионистская картина дождя в большом городе, в ней есть полновесный сюжет, держащийся на параллелизме идей. В первых двух строках расходящимися образами раскрывается единая идея “тяжелого дня”: в первой строке -- как отяжелевшего от воды и несущего посему ношу собственной тяжести, во второй строке -- как дня, всему человеческому внушающего тяжесть ипохондрии. В следующих двух строках идея “дождя-мота” тоже едина; только в первой строке он все проматывает безвольно-запойно, а во второй -- приобретает бытовой человеческий характер и уже кажется давит на жалость. Движение в первом катрене простое от вечного как тягости природы к человечному как патетичному по ту сторону тяжести.
Второй катрен развивает идею дождя как структурирующего городскую жизнь: дождь заставляет надеть плащи, поддаваться его ритму, после усиленно внимать ему, наконец, чувственно испытывать дождь как избыток. Иначе говоря, здесь сюжет идет, раскрывая его идею, от бытового неудобства к созерцанию дождя как сияющего избытка для подготовленного созерцания. Мы уже освобождаемся не лишь от тяжести природы, но от тяжести социального, от городской меры дождя.
В первом терцете развивается идея движения, которое из беспорядочного танца превращается в беспорядочное жонглирование, а после в беспорядочное восприятие. Во втором терцете зрение движется от проверки условий зрения, подводных, через проверку глубины зрения, глубины равной небу, к проверке длительности зрения. Так в обоих терцетах внутренний недоуменный порыв через пробу мира на вкус превращается в переживание мира как щедрой длительности.
Общий сюжет реконструируется так: слишком долго мы переживали природные стихии как простое условие нашего существования, и потому слишком долго наше подражание природе оставалось комичным. Мы должны стать свободными пастырями, а не фланерами, как бы принимающими исповедь дождя, защищая себя от морока быта, но созерцая добрым взором действительное желание жить. Тогда наше умение читать и смотреть станет настоящим подражанием природе: попробовав на вкус свободу, мы превратим свою растерянность в свою же отпущенность на свободу.
Очевидны в сонете некоторые свойства пастернаковского стиля: варваризмы лексические (ипокрит, т.е. лицемер, лицедей -- слово, известное из Евангелия и из вступления к “Цветам зла” Бодлера) и синтаксические “душ берет” (takes the shower); развернутые определения (слезливого святоши), изображение интенсивного действия (“молотит”, “бередит”), наречие с подразумеваемым глаголом (“натощак” в смысле “пришел натощак”)
Вариация пастернаковской темы дождя узнается во всех подробностях: струя поэзии из “Поэзии” (1922) и дождь как ритмическое производство поэзии. “Ночь в полдень, ливень — гребень ей!” (Дождь, 1917) -- ливень как внезапная темнота и как неожиданное ритмическое украшение любви, неожиданно складывающееся волей слов. В стихотворении Голохвастова смешиваются образы разных поэтических манифестов Пастернака.
Удары монет -- это и “Figaro / низвергается градом на грядку” (Определение поэзии, 1917), и отсюда же “озябнувший кулак”, как дождь с градом, и “Кропают с кровель свой акростих, / Пуская в рифму пузыри” (Поэзия 1922), только здесь бубен ритма по рубцам образности. Если у Пастернака акростих -- отражение кровли в потоках струй, скат крыши как имя дождя, а рифма как свидетельство о дожде, страница как грядка, всякой мере письма как медиума поспешно найдено природное соответствие, то у Голохвастова заранее страница города разлинована, и нужно оживить ее ритмом. Это именно пародия, исходящая из того, что данный поэтический мир уже усвоен, но при этом не пародия на выражения, а пародия на саму спешность поэта, в которой его обвиняли эмигранты, как Северянин, бросивший Пастернаку почти оскорбление “усердно подновляет гниль и застарь”.
“А ветер, верткий шут, под хмелем натощак” сложилось из “Снуй шелкопрядом тутовым И бейся об окно” (Дождь, 1917) и “Отростки ливня грязнут в гроздьях” (Поэзия, 1922) -- проникающий везде и при этом выкручивающийся из ситуации запутанных отношений дождь. Если у Пастернака это дождь судьбы, отражающейся как от окна от жизни сознания, то у Голохвастова это общее похолодание, холодный ветер, шутовство, при котором надо выдержать напор дождя как напор собственного вдохновения.
Где у Пастернака живая жизнь переплескивается на страницу, там у Голохвастова надо оживить уже разлинованную страницу.
“Чтоб вдруг швырнуть в лицо, как пригоршню горошин” -- из “и целыми деревьями / в виски” (Дождь, 1917) и “слезы вселенной в лопатках” (Определение поэзии, 1917), в гороховых лопатках. Но только у Пастернака образ остается как бы неузнанным, потому что важно впечатление, -- а у Голохвастова, наоборот, капли дождя имеют свое название, название расписано; и нужно воспринять сильный жест как оживление заранее закрепленных образов.
Иначе говоря, то, что у Пастернака было переживанием власти слов в их увлекающем ритме, то у восторженного нью-йоркского поэта оказывается способом найти тот речевой жест, который и оживит образы, которые уже воспринимаются им как вполне понятные и тем самым каноничные. Это позитивная пародия: пародируется штамп каноничности, но не как жест, а как сюжет, которому просто надо найти продолжение.







 Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост»
Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост» Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год)
Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год) 8 июня Александр Лазарев
8 июня Александр Лазарев
