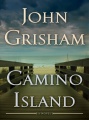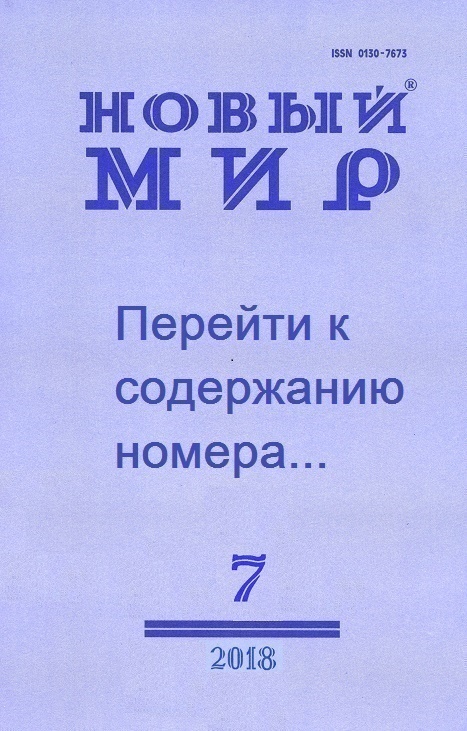
Самое популярное
La Grande Bellezza
Это рецензия на фильм Паоло Соррентино «Великая красота».
Прежде, чем начать, процитирую один короткий отзыв на этот фильм, который прочитал на одном кино-сайте (пунктуацию оставляю без изменений):
«Еще один фильм для узколобых «интеллектуалов», писающих от гротескности и праздности богатой жизни. Типа, все есть, а красоты не замечают, святости никакой, молодость прошла вокруг эпатаж, надменность и цинизм. И вроде умные все – начитанные, но несчастные и уставшие от бытия… да и дети их такие же черствые эгоистичные «уроды». Зато так красиво вокруг.
Только сценарист и режиссер забывают, что именно в такой праздности и сверхнасыщенной усталости и создавались все ранние шедевры Рима. Именно через жестокость, пошлость и эгоцентризм правителей и со-правителей империи. Единственное с чем соглашусь в этом фильме, так это с краткой ремаркой модного гангстера, - пока вы тут разлагаетесь, в своей богеме, мы двигаем мир!
А вообще, суть фильма ни чем не отличалась бы от сути фильма об уставшем колхознике, вдруг впавшем в достоевское самоедство, осознавшим, что красота вокруг нас, и не надо ее искать и рассуждать о ней, а нужно просто смотреть на колосящиеся поля и журчащие реки. Шукшин, кстати, прекрасный антипод по картинке, но синоним по сути» (http://kinogo.club/4493-velikaya-krasota-2013.html).
Эта, рецензия, конечно, полнейшая чушь, но, ведь, автор ее (пусть и путает «высоколобый» с «узколобым») знает Шукшина и Достоевского, - то есть, слышал звон.
Или вот еще с Википедии: «…лента, воспевающая Рим, - своеобразный парафраз феллиниевской «Сладкой жизни»”. Тоже чушь, но, ведь, где-то звонит.
Звон, как следует из поговорки, хочется привязать к источнику. Вся беда Соррентино как режиссера, на мой взгляд, в том, что он тоже не знает, где искать звон, но при этом ясно (яснее других) его слышит.
Вообще, Соррентино очень неровный режиссер, - после «Великой красоты» он снял «Молодость» - пошлую и нелепую картину. Потом снял «культовый» сериал «Молодой папа» - нечто среднее между стебом в стиле "Слез Святого Йоргена" и пасхальной паточной мелодрамой по заветам Коэльо с натужным желанием выдавить из себя умную мысль и вложить ее в уста липкого Джуда Лоу, который исполняет в сериале роль неверующего, но страстно желающего поверить Папы.
Соррентино в своем творчестве, кажется, пытается поднять факел, выпавший из руки другого Паоло – Пазолини. Как и Пазолини, он слышит звон небесных колоколов и хочет вернуть вере искреннее и свежее чувство, сделать это радикально и бескомпромиссно, - по сути, речь идет о том, чтобы починить веру, выкинуть из нее все лишнее, чем она обросла за века, - но, если потребуется, и вовсе пустить на слом, придумать новую веру на обломках старой.
Увы, как строитель новой веры Соррентино слабоват. Как только он пытается облечь некое интуитивное, мистическое чувство внятным нарративом, его тут же сносит в глубокомысленную пустоту, которая затем неизбежно (у него) наполняется кичем и коммерцией.
Популярность (некоторые даже говорят о «культовости») фильмов Соррентино состоит в том, что идея пассионарных поисков истинной веры в наше время витает в воздухе, но мало людей подходят к идее «вытереть табличку», начать с чистого листа, заглянуть за кулисы веры и сделать инвентаризацию чувств и настроений, которые движут наше духовное чувство, которые только и могут нам пригодиться в очищении веры или в строительстве веры новой. В качестве суррогата нужного в этом смысле продукта мы получаем в искусстве всякого рода глупые мистические «откровения», self-help от бизнеса, NewAge от хиппи, сладострастный гибрид духовности с пошлостью (от Коэльо и иже с ним), историческую теологию, и пр., и пр.
Соррентино в «Великой красоте» отличается от всего этого (и от самого себя в других своих работах) тем, что последовательно и честно сбрасывает с себя оковы коммерциализации чувства, убирает упоение собственными поисками духовности, и озабочен, на самом деле, более не этими поисками как таковыми, а именно делом разбором завалов веры, всего того, что накопилось на складе духовного ощущения за тысячелетия, - в особенности же, за последние столетия. И в фильме «Великая красота» он очень верно диагностирует и анализирует главную проблему.
Итак, начнем.
Рим. Красота. Богема.
Все три составляющие не случайны. Но эта лента вовсе не «воспевает» Рим, как написал умник в Википедии. Да, Рим в фильме символ вечности и веры. Но это символ застоявшейся и надоевшей вечности, символ окаменевшей веры. Эта декорация нужна Соррентино для возврата к истокам, для очищения сознания, ибо именно в вечном городе когда-то все было свежо, ново и увлекательно.
Вот один из первых кадров фильма. Некто толстый и бородатый, - похоже, символизирующий Бога, - с грустью смотрит на цоколь памятника с надписью «Рим или смерть». Это Рим? Или это уже конец?
Другой интересный эпизод из пролога: снимающий на камеру с огромным объективом утренний Рим японский турист вдруг падает мертвый. Вот такое идет "воспевание" Рима.
Арт-богема, в среде которой разворачивается действие, выбрана вовсе не для пошлой цели показать пустоту и бессмысленность бытия «зажравшейся» верхушки общества, погрязшей в поисках утонченных удовольствий на фоне некой вечной красоты. Арт-богема Рима в «Великой красоте» это очень интересный символ – это древние языческие боги, сидящие на Олимпе, пьющие там амброзию, ссорящиеся, мирящиеся, взирающие на мир с усталым равнодушием остывшего к некогда любимой игрушке ребенка.
Вот боги, отдыхающие в своем кругу и лениво размышляющие о человеческой суете внизу:
Олимп - что надо. Огромная открытая терраса выходит прямо на площадь Колизея. Вообще сама квартира главного героя – достойное жилище бога, огромная, с мраморными полами, колоннами, украшенная античными статуями и предметами искусства.
Боги, живущие на Олимпе, больше всего всегда любили красоту, они продолжают искать ее и творить ее и сейчас, но уже больше по инерции, - это боги, уставшие уже и от красоты, и от самих себя.
Боги утеряли смысл красоты, забыли его, а, быть может, никогда не знали. Они творили красоту с людьми в Риме тысячелетиями, но ни людям, ни им самим красота ничего не принесла. Где тот, кто воспользуется красотой? Для чего он ей воспользуется? «Красота спасет мир» - какая выспренная пустота, - да и произносит это, кажется, идиот. Где тот, кто укажет, зачем все это было надо?
Как было сказано, по привычке боги продолжают творить – изыскивая для явления красоты в мир формы все более утонченные (провокационные), все более противоречивые, все более шокирующие. Такое впечатление, что они хотят из последних сил взбодриться, пробудиться сами или пробудить кого-то…
Но ничего не выходит. Молитвы богов остаются без ответа. Никого не пробуждает уже их красота, ни у кого не вызывает священный трепет. И боги скучают, и, подобно семидясителетним рок-музыкантам поют шлягеры, сочиненные в молодости, и ждут своей смерти.
Но вот, среди богов появляется один, который вдруг понял, что не хочет больше так жить, править миром по-старому, терпеть бесполезность красоты, ненаполненность мира ее результатом. Это бог-мятежник (интересно, что потом он превратился у Соррентино в Папу-мятежника, - и все испортилось, потому что здесь, именно, нельзя конкретизировать).
Итак, знакомьтесь: бог. Джеп Гамбарделла (его сыграл Тони Сервилло). Бог сидит на облаках со стаканчиком амброзии в руке:
Кто он такой, мы не знаем (и не узнаем весь фильм, но нечего обижаться - Бог непознаваем). Чем он занимается, мы узнаем из фильма лишь приблизительно, - и это явно не то, откуда у него бешеные деньги, помогающие ему поддерживать тот очень дорогой стиль жизни, которым он живет.
Он занимается, кажется, лишь тем, что посещает в Риме различные арт-хэппенинги, арт-перформансы, галереи современного искусства, ходит на тусовки богатых интеллектуалов, и проч., - а потом пишет об этом обзоры в престижные арт-издания.
Но это явно хобби, - еще раз: кто он такой и откуда у него деньги (наследство? В трансцендентальном смысле, в том числе), остается за кадром.
Нам известно, впрочем, что давным-давно, в молодости бог Гамбарделла написал книгу, которая получила большое признание, - хоть с тех пор и оказалась подзабыта. Книга, которую бог написал в молодости, очень говоряще называлась «Человеческий аппарат». Но странно другое: с тех пор бог ничего свежего не написал. Не захотел. Не смог. Не придумал.
Фильм открывается сценой празднования юбилея бога. Гамбарделла 65 лет. Действие происходит на крыше дома в престижном квартале Рима. Все очень дорого. Очень престижно. Очень модно. На Олимпе, как и положено, царит атмосфера элитарного клуба.
Но что-то есть жуткое в этой вечеринке. Посмотрите, как стары все боги. И как они хорохорятся, пытаясь выдать себя за еще энергичных, ловких, обаятельных, успешных и могущественных кумиров. И как они смешны в своей старости, - и как страшен контраст их красивой жизни (вот тут Dolce Vita), формат энергичной молодежной party и их усталых, уродливых, морщинистых и раскрашенных словно трагические маски лиц.
Вы думаете люди не чувствуют старения богов? А они чувствуют.
В одном эпизоде фильма Гамбарделла разгуливает по городу и заходит осмотреть небольшую базилику. Вокруг базилики бегает женщина, потерявшая дочь. Она зовет: «Франческа! Франческа!»
Бог заглядывает сверху в склеп базилики, и видит, что девочка там.
Она вдруг спрашивает бога (снизу вверх): «Ты кто?»
Он отчего-то очень смущается этого вопроса, и отвечает: «Я? Я…», и как будто вот-вот ясно определит девочке себя, но неожиданно замолкает.
Девочка говорит ему спокойно: «Ты никто».
«Никто?!» - переспрашивает бог в шоке, и снова пытается: - «Но я…» И снова замолкает, и только разводит руками.
Но вернемся к началу фильма.
На свой юбилей герой дает себе зарок: «Я буду отныне делать только то, что хочу» Бог уходит на пенсию, - все равно его больше нет для людей, - бог больше не хочет делать, что положено делать богу, «красоту», - он хочет делать только то, что ему хочется.
А что ему хочется?
Это, на первый взгляд, не совсем понятно. Потому что герой начинает делать ничего, - но он не просто перестает делать что-то творческое или целенаправленное. И вовсе не правильно подумать, что он вдруг понял «что красота вокруг нас, и не надо ее искать и рассуждать о ней, а нужно просто смотреть на колосящиеся поля и журчащие реки» (копирайт простофили с кино-сайта).
Сам о себе герой говорит: «Господин странный».
Примечателен контекст, в котором произносится эта фраза. Она звучит в разговоре с уборщицей-филиппинкой утром в роскошной квартире бога в центре Рима.
Она в шутку спрашивает его, не хочет ли господин помочь ей с уборкой квартиры, а он отвечает ей: «Нет. Господин странный»
Бог начинает делать то, что хочет – становиться странным (вспомним, что «strano» по-итальянски это еще и «нездешний», «чужой», «не отсюда»).
Бог вдруг начинает осознавать, что не существует, и, наверное, никогда не существовал, - и тогда он сознательно начинает освобождаться от всего того, что определяло его раньше. Он сдирает с себя маску бога, он стаскивает с себя оболочку личности. Он снимает с себя слои идентичности, как кожуру луковицы, он уверенно движется к пустоте, что внутри него, – это единственная надежда, чтобы оттуда, из пустоты, из этой исходной точки ничто он сможет начать возрождение, - начать строить настоящую Grande Bellezza, а не ту, что получилась в Риме за все время человеческой «вечности», - писать новый (совсем новый) роман.
Интересно, как снова и снова Гамбарделла возвращается к тому главному воспоминанию, что когда-то определило его: в далекой молодости он был влюблен в девушку, и та любила его тоже. Но эпизод, который Гамбарделла постоянно вспоминает связан со смертельной опасностью: он купается в лазурном море, и катер случайно, не видя купальщика, несется прямо на него. Ему кричат с берега, и он только в последний момент замечает катер и ныряет от него глубоко-глубоко в синие воды, а когда выныривает, все радостно приветствуют его с берега, и она тогда замечает его, а он ее.
Здесь в сжатой форме определена личность и то основное, что формирует ее – травма. Смертельная опасность (страх) + неудачные, в конце концов, отношения героя с любимой (секс).
Интересно, что именно в эти глубины (подсознания), в темноту ныряет человек, создавая свою идентичность, создавая себя, - в этих опасных глубинах ответ на вопрос девочки «Кто ты?»
Но теперь, в своем новом качестве, шестидесятипятилетний герой-бог смотрит на происшедшее совсем с другого ракурса:
Море теперь на потолке. Лежа на диване, он видит вверху лишь лазурную, освещенную солнцем его поверхность. Он больше не погружается во мрак. Море на потолке – это одновременно небо.
И вот, Соррентино интуитивно находит то главное, что мешает очищению человека.
Большая часть эпизодов фильма связана с развенчанием мифа о важности построенной на страхе и табу личности, идентичности.
Наиболее прямолинеен в этом отношении эпизод, в котором Бог-ренегат во время собрания богов на Олимпе развенчивает личность одной из «богинь», цепляющуюся за свою идентификацию как успешной и сильной женщины, преуспевшей в жизни, прожившей ее не зря, имеющей принципы.
Богиня по имени Стефания рассказывает всем окружающим, как она важна и как многого добилась в жизни:
- У меня есть убеждения. Мне пятьдесят три года, и я вставала, падала и вновь вставала. Я многому научилась в жизни.
Она долго и с чувством говорит, как важно посвящать себя правильным делам, что она написала одиннадцать книг, вырастила четверых детей, не покладая работала ради нации в партии… «Всегда приходится чем-то жертвовать ради детей», «мы вместе с мужем планируем будущее», «В конце дня я чувствую, что сделала что-то полезное»… Весь набор заявлений лже-личности, полной «убеждений».
Бог Гамбарделла с мягким укором снимает с нее все эти слои «идентичности»:
- Твоей сознательности в годы учебы никто не замечал, зато другое твое призвание помнят многие. Ты целиком посвящала ему себя в университетских туалетах. Про партию ты писала, потому что была любовницей ее лидера. И все твои одиннадцать романов опубликованы маленьким издательством, которое спонсировала все та же партия. А рецензии на них напечатали в газетенках, также работающих на партию. Эти романы бессодержательны, все так говорят. Насчет твоих отношений с мужем, да какие это отношения? Он любит Джордано, все это знают. Это длится годами, они каждый день обедают у Арнальдо, как голубки под сенью ветвей дуба. Ты только делаешь вид, что ничего не знаешь. Что касается воспитания детей и твоего самопожертвования, ты всю неделю работаешь на телевидении и каждый вечер проводишь вне дома, даже по понедельникам, когда у наркодилеров выходной. Ты никогда не бываешь с детьми даже во время твоих длительных отпусков. Помимо этого, если быть точным, у тебя есть дворецкий, официант, повар, шофер, три няни… Одним словом, как и когда ты собой жертвуешь?
Это упрек всем богам. Стефания в ярости покидает Олимп.
Но есть в фильме и более тонкие и интересные ходы развенчания мифа о личности. Друг Гамбарделла – Романо – (интересно, что это имя означает «римлянин») – уже тоже далеко не молодой человек, тем не менее, как юноша, горит желанием творческого успеха, славы, признания. Всю жизнь он пишет пьесы, перелагает классику в новые тексты с особым смыслом, делает «гениальные» сценарии моно-спектаклей. Беда в том, что как-то так получилось, что за всю его жизнь никто не помог реализовать эти спектакли, не дал «путевку в жизнь».
Но, ведь, как говориться, была бы душа молодой. Наш бог, наконец, - вероятно для проверки точности своих выводов о личности, - через свои связи дает Романо возможность несколько раз выступить с этими гениальными моно-спектаклями в реальном театре (ему придется немного заплатить владельцам, но это пустяки по сравнению с возможностью дать знать о своей гениальности миру, к тому же владельцы театра за этот маленький гонорар помогут с рекламой и подгонят публику).
И вот, долгожданный миг настает. Зал заполнен (процентов на 70, но это же отлично для первого раза!) Романо читает со сцены свои навороченные гениальные монологи под проникновенные переборы гитары аккомпаниатора…
Вы, вероятно, ждете провала? Нет, все прошло прекрасно. Публика аплодировала. Монологи, вероятно, были вполне себе. Пришедшие вовсе не были подсадные – им, наверное, более или менее понравилось.
Только, вот штука. Когда Бог поздравляет Романо с успехом, тот очень грустен. И отказывается от оставшихся для него в графике театра слотов.
Глупый маленький успех, который опоздал на пятьдесят лет. Маленький искусственный успех, который мог определить его тогда, но сейчас уже не определит. А определял Романо все эти пятьдесят лет именно несостоявшийся его успех, затаенное внутри чувство собственной, никогда не предполагавшейся к раскрытию людям гениальности. Но вот гениальность раскрылась, и оказалась пшиком, - и словно вышел из Романо воздух, - серенький успех в сереньком маленьком зале, заполненном на семьдесят процентов. La Grande Belezza не бывает на 70%.
Не определив себя по-новому, Романо потерял себя старого, поняв, что все это время он принимал за Великую Красоту лишь пустоту в себе.
- Я уеду из Рима, - грустно говорит «Романо» богу после того, как отказался от творчества (от красоты), - Я больше не хочу здесь жить. Я уеду к себе домой (имеется в виду, в маленький городок в провинции).
Другой замечательная метафора создания ложной персоны, мифической личности – дочь старого друга бога, - наркомана, мафиозо, владельца стрип-клуба. Дочь его зовут Рамона (обратите внимание на созвучие с «Романо»)
Друг-мафиозо жалуется богу, что его дочери уже за сорок, а все, что она хочет – это танцевать стриптиз. У дочери отличное тело и лицо, - великая красота, - но ей за сорок! А что дальше?
- Я не знаю, куда она тратит все деньги, что я ей даю, - сетует ее отец.
Бог сходится с Рамоной – понаблюдать за этой великой красотой. Рамона признается ему, что все деньги тратит на пластические операции.
Символы абсурдного строительства личности даны во многих сценах посещения Гамбарделлы арт-хэппинингов.
Один перформанс происходит в полутемной зале с очень дорогим оформлением. Врач-пластический хирург, добрый и одновременно суровый, и загадочный, похожий на бога, и вокруг него персонал, одетый под монашек, но с элементами эротики. Бог принимает одного за другим разных пациентов, слушает их горести и вкалывает им ботокс в разные части тела, и за это назначает каждому плату – каждому свою, но всем бешеную.
Другой перформанс организован человеком, которого отец по странной прихоти фотографировал с самого дня рождения каждый день. Человек так к этому привык, что потом и сам лет тридцать каждый день снимал себя. И вот, теперь все фотографии наклеил в их последовательности – день за днем – в античной аркаде, идущей кругом. Личность, сама ставшая перформансом.
Очень интересно в эпизоде то, что личность создается механическим отражением (фотографированием).
Самый первый перформанс, который герой посещает в фильме, представляет собой голую женщину, которая с разбегу бьется головой о римский акведук.
После перформанса бог берет интервью у этой женщины, заинтересованный таким очевидным желанием покончить со своей личностью.
Женщина оказывается на пробу замороченной хиппи, свихнувшейся на «вибрациях» (она не может объяснить, что это), - из тех, кто предлагает дешевый суррогат новой веры, но отнюдь не Garand Bellezz’у. К тому же, выясняется, что голову во время перформанса концептуалистка потихоньку оборачивает поролоном.
Еще эпизод.
К герою приходит в совершенном отчаянии человек, который оказывается супругом той самой девушки (первой и единственной любови бога). Мужчина прожил с ней тридцать пять лет, и вот, она умерла. Мужчина любил ее больше жизни. Но получите: после смерти мужчина нашел дневник жены, где она все тридцать пять лет писала только про бога (Гамбарелла), а про мужа написала всего несколько строк, определив его «хорошим другом».
Муж убит горем и таким невниманием, - на самом же деле тем, что он потерял свою личность (и она, как у Романо, оказалась пшиком).
Бог мягко наблюдает за ним, успокаивает.
Через несколько дней, однако, Гамбарелла было тоже хочет снова определить себя (может быть вспомнить?), он просит у мужа разрешение почитать дневник, на что муж отвечает ему, что он уже пару дней как выбросил дневник на помойку. Так мы легко относимся к чужим личностям, - так же легко относимся и к определению бога.
Через короткое время убитый горем муж – нет, не вешается, - вдруг становится вполне мещански доволен, обретя новую подругу жизни, угловатую и похоже срощенную по интернету женщину из Восточной Европы. Он снова определен - суррогат жизни чуть дешевле предыдущего, но тоже суррогат, - и ведь, как интересно, работает, почти так же хорошо, как старый.
- Что ты будешь делать сегодня? - спрашивает счастливый муж у бога.
- Я буду много пить, но не до беспамятства, - с грустной задумчивостью отвечает ему Гамбарделла, наблюдая это возрождение лже-идентификации.
Зевс уже окончательно убедился, что лучше будет, если его не будет. «Великая красота», в этом мире выписывается по интернету из Восточной Европы. Имеет смысл только раствориться, как жемчужина в стакане уксуса.
Замечательна в фильме пара сдающих себя в найм для пафосных раутов обнищавших донельзя аристократов древнейшей фамилии. За несколько сот евро, в арендованной одежде они сидят на званых обедах и ужинах, создавая тоже такой перформанс, - ложно определяя как себя, так и других.
Очень забавно, как возмущаются они, когда им предлагают изобразить пару аристократов другой фамилии, с которой их род веками враждовал. Но потом соглашаются – 250 евро за вечер нужны. Эхо бывшей идентичности гукнуло и пропало.
А потом следует трогательная сцена, когда нищая аристократка из этой пары в своем бывшем дворце, давно парой проданным и сделавшимся музеем, одна при потушенном свете подходит (прокрадывается) к одному из экспонатов - колыбели, и включает кнопку аудиогида. Доброжелательный женский голос рассказывает старухе, как в 1930 году принцесса такая-то родила прелестную дочку, и что это ее колыбель, и что маленькая принцесса провела детство во дворце в любви и заботе. Старуха и есть та маленькая принцесса.
Рождение, детство – это не перформанс. Но вот вся последующая человеческая жизнь…
Дети богов – люди – умирают в фильме, как в жизни. Умирает Рамона, умирает сын одной из «богинь», - а боги все живут, себе в тягость. Когда Гамбарелла готовится к похоронам сына своей подруги, он цинично описывает Рамоне (тогда еще живой) ритуал похорон, и как следует себя вести на этом «перформансе» – суть монолога сводится к тому, что все на похоронах – сплошное лицемерие. Но сам во время похорон опровергает себя, вдруг неожиданно зарыдав, поднимая гроб бестолкового, никому не интересного юноши. Похороны – это не коммерческий перформанс, это, возможно, единственное серьезное и правдивое представление жизни. И за этим рыданием бога по такой бестолковой жизни кроется настоящая GRANDE BELEZZA.
Бога знакомят с ясновидящей, которую привозят в Рим помолиться – тоже, между прочим, откуда-то из Восточной Европы. Она очень знаменита. Послушать ясновидящую съезжаются в Рим патриархи всех религий. Впрочем, заканчивается все снова перформансом, - представители всех религий делают с ясновидящей фото на память.
Привозит старушку хлыщ, в котором читается типаж Коровьева.
Хлыщ без конца все сам говорит за ясновидящую, пытаясь определить ее. Но ей все равно, как и богу, который в ужасе застает ее спящей после банкета на полу в своей спальне.
Конец фильма Соррентино, на мой взгляд, смазал. И найденная в спальне Гамбарелла старушка (вот, дескать, указала, на бога), и облепившие вдруг террасу бога (Олимп) по утру перелетные розовые фламинго – это уже в стиле Коэльо и кича. Это уже предтеча «Молодого Папы».
Совсем уже лишней представляется заключительная сцена фильма, в которой во сне герой вновь возвращается в молодость на ту скалу в море, где они когда-то были с любимой. И любимая обещает ему показать что-то (видимо, имеется, в виду Grande Bellezz’у или хотя бы выход к ней), - но вместо этого расстегивает блузку и показывает голую грудь.
Это уже типичный последующий Соррентино – думал, думал, ничего не придумал, плюнул, решил беспроигрышно показать молодые молочные железы. Последняя фраза фильма: «Все это всего лишь фокус». Запутался.
И, тем не менее, фильм «Великая красота» почти великий. Плавный, последовательный сеанс магии идентичности, «важности» жизни человека в формате личности - с одновременным беспощадным разоблачением этой магии, этой «важности».
Теперь вернемся к вопросу о том, где же звон. Не стройте больших ожиданий, я лишь попытаюсь сделать к колокольне маленький шажок.
Сделаем параллель с литературой.
Т.С. Элиот настаивал на том, что думанье должно сочетаться с неким психологическим «обонянием» в художественной литературе, а новые критики (I.Richards, в частности), говорили о том, что поэзия предлагает «псевдо-ответы» на важные вопросы «Как?» и «Почему?», организовывая наши чувства вокруг этих вопросов таким образом, что мы оказываемся на время успокоенными полученными (как бы) ответами, - они говорили, что в этом смысле художественный нарратив представляет собой род экзистенциальной психотерапии.
При распределении нюансов этих «запахов» (по Элиоту) по жанрам и произведениям, однако, выявляется одна довольно неожиданная вещь: есть литература, обладающая неким «над»-психологическим воздействием на читателя, неким «над-запахом», - интересно и то, что она не принадлежит одному жанру, но принадлежит времени.
Здесь речь, прежде всего, о той литературе, которая в XIX-XX веках – на очень коротком историческом промежутке времени (лет в 100-150) в Европе – пыталась заменить собой ослабевшую на тот момент религию и взять на себя ее функцию посредника между человеком и некой идеей абсолюта. Речь идет о проверенных временем произведениях мэтров от литературы, о классике XIX-первой половины XX века.
«Над-запах» (назовем лучше этот воздействие «мета-эмоция») таких произведений не соответствует никакому существующему в человеке эмоциональному или психологическому «полуфабрикату», одному из готовых модусов отношения к реальности, - но создает у человека новое психологическое состояние, принципиально новый модус познания реальности. Подобную же «мета-эмоцию» формирует у (информированного) зрителя фильм Соррентино «Великая красота».
В чем была сила подобного воздействия в литературе? Что представлял собой «мета-вкус» произведений Толстого, Чехова, Диккенса, Хемингуэя?
Глубинное воздействие на читателя текстов классических авторов золотого и серебряного века, прежде всего, заключалось в погружении читателя в атмосферу возможности альтернативной реальности, - настоящей, а не суррогатной GrandeBellezz’ы. Будь то реализм Толстого, символизм Белого или гипер-реализм Хемингуэя, - мы имеем дело с подспудным описанием некого нового способа существования людей – способ этот подается путем «остранения» текущей действительности у Толстого, бескомпромиссно «черно-белым» описанием структурных элементов текущей реальности у Хемингуэя, странным смешение элементов текущей реальности с элементами реальности новой у Набокова (и Толстой, и Хемингуэй, и Набоков при этом как будто смотрят на текущую реальность из новой реальности).
Было в литературе, и наоборот: взгляд на новую реальность из реальности текущей – таков, к примеру, случай символизма – зашифровывание предметов и явлений текущей реальности в символы реальности иной.
Чехов, например, тоже смотрит, в отличии от Толстого, на новую реальность со стороны реальности настоящей. Блеск бутылочного стекла на плотине у Чехова – это блеск реальности новой сквозь футляр текущей реальности.
Важно понять, что, когда я говорю о новой, альтернативной реальности, я не имею в виду творческое пространство, созданным автором (писателем или режиссером), и в которое читатель погружается, эскапируя из реальности настоящей. «Мета-эмоция» есть появление у человека веры в реально существующий альтернативный мир, - в возможность практически в нем существовать уже при жизни, - важно, что вера эта остается в нем (некоторое время) и после закрытия книги.
«Мета-эмоция» в произведениях классики создает у читателя новый модус познания реальности, совершенно новое психологическое состояние, модус иррациональный с точки зрения материалиста. Это состояние есть только человеческое состояние, - состояние веры, - оно архи-гуманистично.
Как говорили Новые Критики, литература организовывает "беззаконные низовые импульсы более эффективно, чтобы они обеспечивали выживание высших, более тонких импульсов» (И.Ричардс). Я бы поправил здесь Ричардса – речь идет не о выживании, а о рождении и выживании новых высших импульсов, - это процесс трудный, с риском неудач и реверсов, - чреватый на пути многими ошибками, - ибо, как мы увидим дальше, родиться может рядом с этими импульсами и подменить их собой нечто совсем иное.
Ловушка здесь состоит в том, что язык очень изворотлив, - он очень просто подменяет интуитивное томление человека по альтернативной реальности, по новому модусу бытия, желанием идентифицировать себя (и уводит в этом направлении все искуство). И вот уже всякая попытка вырваться из реальности действительной превращается не в выход в новую реальность, а в пустой перформанс, в создание очередного варианта себя – пустого и заранее сгнившего в себе, как не развившаяся плоть грецкого ореха, ставшая черной трухой.
Тренд этот понял, подхватил и развил со всей мощью в 60-е годы ХХ века - Энди Ворхолл. Сделать из маркетинга искусство. Аура произведения создается не вложенными в него трудами поиска истины, но происходящим вокруг него перформансом, задействованностью в нем людей и институтов, каждый из которых, в свою очередь тоже имеет ауру, - и именно аура хэппенинга вокруг произведения накачивает предмет искусства «художественной» и финансовой ценностью. Вот вам великая красота действительного мира – и я говорю здесь не только о консервных банках Ворхолла, но и о Соборе Святого Петра, Пьяцца Навона, фонтане Де Треви, и прочем. Ворхолл лишь кристаллизовал феномен, выделил квинт- эссенцию «Гранд Беллецци» нашего с вами мира, а так она и всегда была.
Это как сахароза и сахар – если первая (во фруктах) долго расщепляется, усваивается сложнее, используется организмом малыми дозами для переработки в энергию по мере необходимости, то вторая (рафинированный сахар) усвояется организмом быстро и вся без остатка, дает ощущение сиюминутной, но быстро преходящей эйфории, перегружает все системы организма, дает ненормальный выброс в кровь инсулина, и в огромной мере тут же откладывается в организме в виде жира, утяжеляя всю систему. Именно в силу сложности производства искусства в классическом искусстве проявлялась настоящая GrandeBellezza, «мета-вкус», - даже не смотря на то, что в огромной степени классическое искуство также строило идентичности. Именно поэтому настоящая GrandeBellezza присутствует и в Соборе Святого Петра, и в Пьяцца Навона и в фонтане де Треви. Но это был лишь компромисс – искусство создавало идентичность, одновременно разрушая его. В этом была магия классического искусства.
С открытием Ворхоллом «рафинированного искусства» магией стала маркетинговая аура.
Нынешняя ступень социального устройства и технологического уровня и особенно преуспела в строительстве идентичностей, - а именно тем, что совершила ловкую подмену стремления человека к отказу от идентичности виртуализацией идентичности.
Человек замкнут в чеховском футляре, который сам же и создал для себя своей маркетинговой аурой, своей «идентичностью» (всегда, впрочем, «виртуальной»), подменивший нестойкой блестящей голограммой его ощущение себя реально возможного в новом мире.
Что же со всем этим делать?
Если искусство с «мета-эмоцией» являлось сочетанием искреннего (и тяжелого) труда по поиску истины с вполне маркетинговыми усилиями по консолидации идентичностей, задачей современного искусства должно являться разрушение идентичностей, возвращение искусству чистой мета-эмоции без элемента какой бы то ни было ангажированной ауры. Только такое искусство поможет человеку со временем выйти в новое измерение, в действительность Великой Красоты.
Фильм Соррентино «Великая красота» блестяще уловил эти феномены.