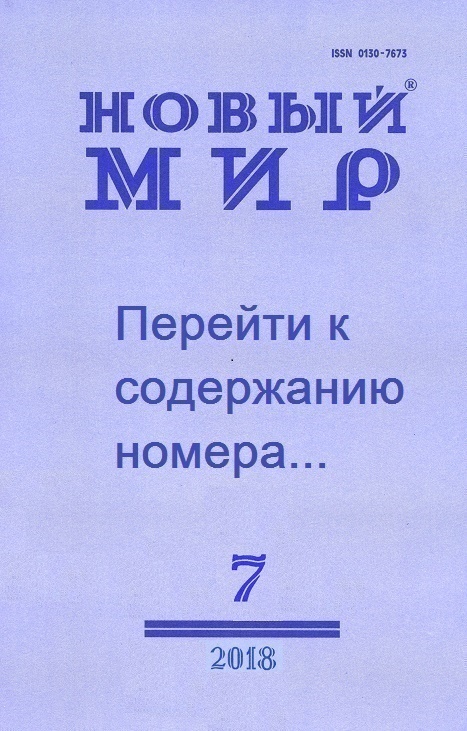
Выбор редакции
Проекты
Александр Марков
«Лебедь» Аронзона: от чувства к смыслу

И.В. Ерохиной
«Лебедь» Леонида Аронзона, сонет-манифест, и понятен, и ускользает от понимания. Это менее всего «гротескное» стихотворение, если под гротеском понимать сшивание несовместимых образов на нитку колеблющейся семантики. Напротив, это антигротеск -- ни один из образов не может перерастать в другой, как тело человека из завитка, только потому что мы заранее изучили, что тело бывает и человеческим, и растительным. Последователь Заболоцкого, Аронзон наоборот, смотрит, как тела природы разрывают готовые словарные значения, как они выбиваются из привычных емкостей смысла.
На картине Уотерхауса Нарцисс, приникший к камню так, что едва ли сдвинется с него, едва ли может заметить гибкий стан нимфы. Кувшинки, нимфеи, лишь блики этой гордости, семантические слепки, совпадающие по корню; но они не могут спасти Нарцисса, не могут встроить его вновь в гротеск природы. Такой сюжет описывается в сонете, невозможность нарциссизма: “зеленою заплатой / Лист кувшинки запер вход” -- невозможно вместить себя в пейзаж и восторженно в нем раствориться.
Подтекстом “Лебедя”, конечно, был Пушкин, по-новому разложенный новым поэтом. Таким раскладом может стать “Зимнее утро”, но только увиденное не со стороны поэта, а со стороны предметов. Дева уже оказывается не “звездою севера”, но небосводом, причем “сидела дева”: зрячая любовь оказывается имеет отблеск, такое спокойное сидение. Также “плыл карась, макет заката” -- явная отсылка к “луна, как бледное пятно”: у Пушкина сравнение луны с неподвижным пятном должно преодолеть всякую мысль о движении светил, внушить меланхолию ночи, которая и преодолевается потом пейзажем как разоблачением природы перед простирающимся взором.
У Пушкина видно как река блестит “подо льдом” и “ель сквозь иней зеленеет”, такое сверхвидение как раз вполне гротескно: оно видит великолепные ковры, видит вещи, застывшие в своей роскоши, а не природу. Здесь сравнение нужно не для раскрытия образа, а для передачи того, что в этом гротеске прорастает уже не тело в тело, а смысл в смысл: не снег вдруг становится похож на ковер, но ковер и снег соревнуются в своей возможности простираться и увлекать надолго зрение. И так же у Аронзона если карась “майский жук болотных вод” -- это не потому, что он блестящий (какой блеск заметен в воде), но потому что движение жука и движение карася могут быть равно увлекательны, хотя наблюдать их долго не получается, наблюдение происходит с некоторой мысленной, а не реальной точки. Ненаблюдаемый гротеск среди антигротескных образов выводит нас из мира чувственного в мир умопостигаемого.
В первом терцете сонета лебедь называется “сосудом утра”, “родич белым… цветам”, и оказывается, что он качается. Сосуд как архаическое название снаряда или орудия может напомнить об аллегории веры, держащей факел, евхаристическую чашу, крест (как орудие против дьявола) или оборонительное оружие. Белые цветы и родство с ними напоминает о надежде, которая в аллегориях обычно держит якорь или скрижали с нерушимыми заповедями, заставляет застыть ситуации, атакующие безнадежностью, и лебедь застывает как цветок среди цветов. Родство здесь, этот поэтизм для сходства, оказывается не просто указанием на восторженное восприятие природы, но на нормированность этого восторга правильным распределением смысла между готовыми образами: смысла каждому из образов хватило ровно настолько, чтобы они породнились. Не белый цвет и гладь воды основание сходства, но равно влекущее спокойствие, приводящее в порядок ум, а вовсе не будоражащее чувство. Наконец, “он качался тут и там” -- это не описание только того, как лебедь качается на волнах, но указание на аллегорию любви, которая всегда может присутствовать равно “тут” и “там”, и в сердце, и в любимом, и в любящем.
Важнее всего, что мы видим не соединение образов, а соединение смыслов: “тут” и “там” выступают не как параметры действия образа, не как намек, где надо искать предмет этого образа, но как указание на внутреннее свойства этого образа оказываться идеей и “тут” и “там”. Так устроено и движение в последней строфе пушкинского “Зимнего утра”, чувства, становящиеся смыслами всей сцены: оно состоит из чувства плавности полозьев, чувства быстрого увлекающего движения и чувства собственной ярости коня: опять вера, доверяющая инструменту движения, опять надежда, как равновесие и нормированность при самом быстром движении, и любовь как ярость, которая движет всем этим.
Но так же и в последних строках “Зимнего утра” вера в урожай, который принесут “поля пустые”, этот инструмент урожая, надежда на то, что леса, благодаря равновесию климата, лучше всего сохранятся, и любовь к берегу, влекущая в яростную бесконечность. Так и у Аронзона крутая тетива шеи, как уже орудие, оказывается изгибом груди, как равновесием умопостигаемого образа лебедя, его бьющая в глаза равновесность. И раз этот образ уже вполне умопостигаем, то “он был не трелей соловьем” -- это указание на птицу любви чувственного мира, которая вызывала умственные ассоциации у любящих, воспринимающих однообразную трель соловья как песнь любви. Тогда как лебединая песня в умопостигаемом мире -- это как раз песнь любви, потому что никакой другой связи образов кроме смысловой нет, кроме ушедших в умопостигаемый мир песен, каждая из которых ставка смысла, и потому могут переходить из смысла в смысл, как только сравнение с птицей любви приходит на ум.
ЛЕБЕДЬ
Вокруг меня сидела дева
И к ней лицом, и к ней спиной
Стоял я опершись на древо
И плыл карась на водопой.
Плыл карась, макет заката,
Майский жук болотных вод,
И зеленою заплатой
Лист кувшинки запер вход.
Лебедь был сосудом утра,
Родич белым был цветам,
Он качался тут и там.
Будто тетивою, круто
Изгибалась грудь на нём:
Он был не трелей соловьем!
1965







 Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост»
Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост» Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год)
Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год) 8 июня Александр Лазарев
8 июня Александр Лазарев
