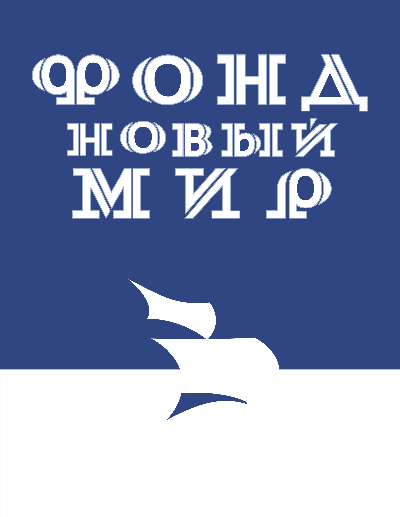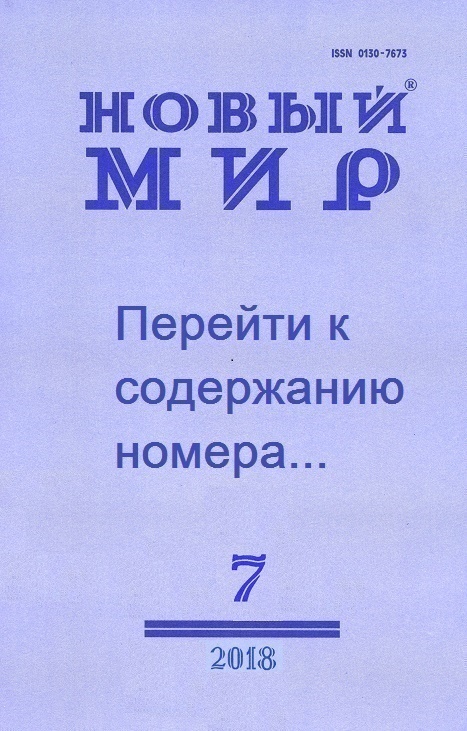
Выбор редакции
Проекты
Александр Марков
Таинственное Богословие, надписанное именем Дионисия Ареопагита
О таинственном богословии
Гл. 1
1
О Троица, выше всякого бытия, выше всякого бога, выше всякого блага, ты опекаешь богомудрие христиан, направь нас к вершине тайных слов, что выше всякого незнания, и всякой вспышки, и всякой выси. Только там простые, непреложные и неизменные таинства богословия открываются в ярчайшем мраке сокровенной тайны, что сияет ярче света в совершенной тьме, переполняя всецелой вспышкой и неотразимой красотой остолбеневшие умы. Да будет такова моя молитва.
А ты, друг Тимофей, ради таинственных зрелищ в напряжении труда отринь и чувства, и действия ума, и всё чувственное и умственное, существует оно или нет, — всё отринь, и непостижимо подходи к неведомому единству, не опираясь ни на бытие, ни на знание. Тебя уже ничто не удержит; но в чистом исступленьи отрешенности, к лучу божественного мрака, летящему над всяким бытием, ты и устремишься, все забыв и скрывшись от всего из виду.
2
Смотри, чтобы никто непосвященный об этом не узнал. Такими я зову тех, кто в вещах погрязли и не могут себе представить, что сбылось как ничто над всяким бытием, — но думают, что самовольным знанием узнают положившего “тьму сокрытием себя” (Пс. 17, 12). Если выше них любые божественные посвящения в тайны, что уж говорить о тех, кто не знают никакого посвящения, и потому всё превышающую причину начертывают средь сбывшихся последствий, и говорят, что вот ничего не выше их измышлений в многообразных безбожных обличьях? Но нам нужно Причине всего назначить и предположить все утверждения о бытии, но также, по собственному ее смыслу, все это отрицать, — потому что она выше всякого бытия. Не думай, что отрицание противоположно утверждению, — но думай, что эта причина настолько опережает все, что она выше любых лишений, и может обойтись без утверждений и отрицаний.
3.
Поэтому божественный Варфоломей говорит, что богословие просторно и тесно, и что Евангелие широко, велико и вместе с тем сжато. Я понимаю это так, что он по ту сторону природы осмыслил, что добрая причина всего и требует множества слов и довольствуется краткой речью и даже молчанием слов. Не скрепляет ее ни слово, ни мысль, но она парит над всякой сущностью, раз ей назначена самая высь, и лишь тем по правде без покровов является, кто прошел через вину и очищение, кто высясь целиком над всеми святыми вершинами, оставил позади все светы, звуки, слова божества, и погрузился во тьму, где поистине, как говорится в Изречениях, “всем запредельный” Бог. И не просто так божественный Моисей получил сперва повеление очиститься, и не очистившихся сторониться; и только очистившись со всех сторон, он услышал многозвучные трубы и узрел многие светы, сверкающие напором чистых лучей. И только после он, оставив толпы, вместе с назначенными священниками достиг вершины божественных подъемов. Но и там он не стоял рядом с Богом, и не созерцал Бога (Бог невидим!), но только место Бога.
Это значит, думаю, что даже самое божественное и высокое, что мы видим и мыслим — лишь некоторые предположительные речи, заданные таким превосходством Его над всем. Так только может быть показано Его присутствие, превосходящее всякую догадку мысли, что будто оно ступает, и касается вершин этих самых святых мест. И тогда Моисей отходит от всего увиденного и от всякого взгляда, и вступает в глубину таинственной тьмы незнания, выставляя прочь все познавательные предположения, — вот уже будучи в непролазной тьме, где ничего не разглядишь. Он уже весь по ту сторону всего, не соотносясь ни с собой, ни с чем-либо другим. Ни о чем не догадываясь, он не считает какое-либо свое знание действительным, и потому присоединяется к лучшему. Ничего не зная, он знает превышающее ум.
Гл. 2
И мы помолимся, чтобы мы познакомились с этим превзошедшим свет мраком, и чтобы ничего не разглядывая и ничего не узнавая, мы и видели и знали Того, кто выше зрения и знания, кого и не увидишь и не узнаешь. Ведь только тогда мы видим и знаем по-настоящему. Помолимся, чтобы мы из над-бытия пропели гимн Тому, кто над бытием; вычитая любое бытие: как творящие талантливую статую вычитают всё прибавочное как препятствие к чистому рассмотрению сокровенного. Только при таком вычитании сокровенная красота начинает себя показывать.
Нужно, думаю, такие отрицания воспеть за счет утверждений. Когда мы утверждаем, мы начинаем с первичного и через среднее доходим до окончательного, до самого низа. А когда мы отрицаем, мы идем от самого низа к первичным началам, чтобы постичь то неведение, которое скрыто во всяком бытии за известным всем, — и тем самым постичь тот мрак над всяким бытием, который скрыт от нас светом, лежащим на всякой вещи бытия.
Гл. 3
В “Богословских набросках” мы воспели самое-самое в положительном богословии: в каком смысле добрая божественная природа называется единой, в каком — троичной, что значит для нее называние отцовством и сыновством, и что желает заявить богословие Духа. И как из нематериального и неделимого добра рождаются сердечные светы добра, и в сердце как и в самих себе и друг в друге пребывают неотступно: потому что их нарастание собралось в вечности. И как Иисус, стоящий над всяким бытием, осуществился в заявленных человечеству истинах, — и всё другое, проговоренное в Речениях, воспето в “Богословских набросках”. А в “О божественных именах” — почему Бог именуется добром, бытием, жизнью, премудростью, силой и всеми другими богоименованиями нашего ума. А в “Символическом богословии” — как имя переносится с чего-то чувственного на что-то божественное, и что такое божественные черты, божественные обороты, части и инструменты, божественные места и миры, гневы и печали, раздражения, опьянения до головокружения, клятвы и заклятья, сны и бодрствования и все возможные прочие священно придуманные образования символического запечатления Бога.
Думаю, ты заметил, насколько последние многословнее первых: ведь и получается, что “Богословские наброски” и “О божественных именах” раскрывают все в краткой речи, в отличие от “Символического богословия”. Чем больше мы поднялись вверх, тем больше сжаты речи, дающие обзор умственным предметам. Так и сейчас, входя в глубину превысившего ум мрака, мы уже оказываемся не с краткостью речей, но вовсе без речей, и без осмысления. И свыше донизу сходя, речь по мере нисхождения ширится ко множеству вещей. А сейчас восходя от низшего к высочайшему, речь по мере восхождения сжимается и на полном подъеме уже совсем беззвучна, как полностью соединившаяся с безмятежностью.
Почему, спросишь ты, утверждения о Боге мы начинаем с первичного, а отрицания о Боге — с самого последнего? Потому что утвердительное положение убедительно начнется ближе всего к превосходящему всякое возможное утверждение. А отрицание чего-либо в превосходящем всякое отрицание убедительнее всего начнется с отрицаний самого далекого. Разве Бог не в более величественном смысле жизнь и добро, чем он воздух и камень? И разве не лучше начать с того, что Бог не пьянеет и не сердится, чем что не говорит и не мыслит?
Гл. 4
Сейчас мы говорим, что причина всего выше всякого бытия, не лишаясь при этом бытия, жизни, речи и ума.
Она — не тело и не обличье; не имеет ни вида, ни качества, ни количества, ни объема. Она не может занять место, показаться на глаза или поддаться чувственному ощущению. Она неощутима, и поэтому не ощущается.
В ней нет бесчинства и испуга, причиняемых страдальческой материей. В ней нет и слабости, наводимой чувственными недугами.
В ней нет нехватки света. В ней нет перемены и разрушения, дробления и лишения, течения или чего-то чувственного, и не узнает она этого.
Гл. 5.
На подъеме мы сразу говорим, что она — не душа и не ум, не имеет никаких представлений, мнений, речей или умозаключений. Она — не речь и не вывод ума, потому и не может быть названа или осмыслена.
Она — не число, не чин, не величие и не уменьшение, не равное и не неравное, не подобие и не отсутствие подобия.
Она не стоит и не движется, и не находит безмолвного покоя. Не собирается с силами, и не сила, и не свет. Не живет, и не жизнь. Не бытие даже, не век, не ход времени. Не приближение ума и не наука, не правда, не правление, не мудрость. Не единое, не единство, даже не божество, даже не добро.
Она не дух, как мы его знаем, не сыновство, не отцовство, ни что-либо другое из того, что мы можем знать, или кто-либо существующий может знать. Она — не что-либо чего нет, но и не что-либо что есть: ничто существующее не узнает ее как она есть, ни она не начинает понимать существующее как оно есть.
Не расскажет о себе эта причина, не назовет своего имени, не даст о себе знать. Она не погружает во тьму и не дает свет, не солжет и не скажет правду.
Вообще не для нее утверждение или отрицание; и если мы творим ей утверждения и отрицания, мы ничего не прибавляем и не отнимаем — потому что она выше всякого утверждения, как совершенно неповторимая причина для всего, но и выше всякого отрицания, как превосходящая своей отрешенностью совершенно всё, запредельная всему.
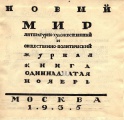



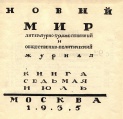

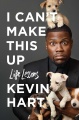
 Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост»
Сергей Беляков. О «Генеральном плане Ост» Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год)
Виктор Белкин. Гора и Рэм. (Фортамбек 1977 год) 8 июня Александр Лазарев
8 июня Александр Лазарев