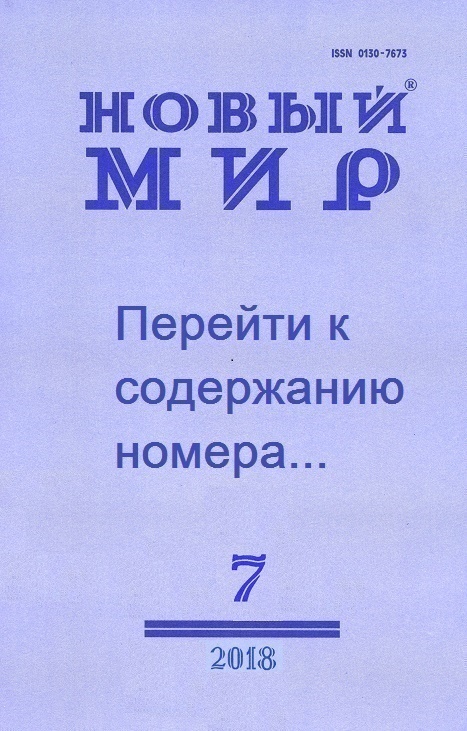
Проекты
Александр Марков
Гёте и Байетт
Немецкие отблески в романе Possession А.-С. Байетт
Гениальный любовный роман А.-С. Байетт Possession (1990) (в убогом русском переводе назван “Обладать”; далее цитируется по стереотипному изданию Random House) отсылает ко множеству традиций, часто регрессивно: встречая имя Бальзака, ты вспоминаешь Серафиту и уже через несколько страниц рассчитываешь увидеть имя Сведенборга -- и не обманываешься.
Равно как и встречая мотив рыцаря в саду у колодца или источника, знакомый по прерафаэлитским изображениям, ждешь мотива скорее Помоны и Вертумна, без которого невозможна была и такая викторианская переработка, с интериоризацией эмоционального переживания времен года, сведением всех переживаний к пленяющей время куртуазной мечте. Тогда рыцарь как разрушитель иллюзий, а не мифолог и оказывается частью нового канона благородства Байетт. Такая регрессия, проходящая не через первую ассоциацию, а через вторую (не Бальзак-реалист, а Бальзак-мистик), поддерживается и в отсылках к немецкой литературе, хотя и не сразу понятна.
Фауст упоминается несколько раз. Сначала говорится о Фаусте и Божественной Комедии как книгах, которые можно легко определить по корешкам, рассматривая кабинет Эша -- протагониста “викторианского” плана романа. Этот кабинет коллекционера, эрудита, дилетанта и прочая -- ясно, что если останавливает внимание корешками и надписями, то именно потому, что это эпохальные книги, что именно на них должно остановиться время чтения. Это не просто большие книги в дорогих переплетах, чтобы сразу была видна надпись: просто среди множества экспонатов эти уникумы выделяются так же, как среди вещей выделяются часы, приборы для точного подсчета времени. Эш наделен чертами Фауста, но в письме жене он говорит о себе как о принадлежащем “фаустовскому поколению”: We are a Faustian generation, my dear—we seek to know what we are maybe not designed (if we are designed) to be able to know. Он пишет из путешествия: по логике регрессии путешествие викторианской колониальной эпохи должно предвосхитить цивилизаторство Фауста, о чем никто не догадывается: на этом этапе повествования все эшеведы почитали Эша примерным семьянином, и Фауст для них был только один из источников вдохновения, но не часть романной логики. Настоящая логика, в которой поэтесса Кристабель ля Мотт -- истинная любовь Эша, раскрывается не в конструктивно важном указании на достижение уже современными героями “фаустовских пределов”, но в рассказе феминистски-хипповской исследовательницы Леоноры Стерн о постановке Фауста на сцене. Леонора выступает как главный толкователь любовных сюжетов, и здесь она оказывается вполне на высоте.
"Ah," said Leonora, "I must tell you about a letter I had from a German about Goethe's Faust, where the chopped-off heads of the Hydra creep about the stage and think they are still something or other—I've been paying attention to Goethe recently—the ewig weibliche, the Mothers, all that, the witches, the sphinxes. . . ."
Головы Гидры, разбросанные по сцене, явное указание на какое-то из дел Фауста, на его научную смелость. Намек на его прокладку каналов можно видеть в самом имени и образе Гидры. Но важнее то, что здесь и термин бытовой психологии “канализация”, которая должна как бы дать выход эмоции. Весь роман Байетт говорит именно о невозможности такой канализации, о том, что попытка найти выход для эмоции в каком-то одном деле только приводит к появлению новых узлов, новых голов гидры, новых конфликтов и историй. И эти истории благополучны, если только преображается сама “водная” стихия: упоминание в романе водной природы дракона, который в конце концов предвещает будущую научную карьеру протагониста в Гонконге, где чтут драконов, или в Амстердаме, полном каналов -- это и есть единственный выход. Не когда ты творчески продумываешь свою деятельность, но когда ты позволяешь самой деятельности искать выходы. Эш и нашел выход, когда признал именно стихию своей тайной любви стихией водной изменчивости, в отличие от сухого пламени канонической любви. Именно так он оценил творчество ля Мотт, но есть и еще один важный “немецкий” намек: ля Мотт в письме Эшу говорит о Schleiermacher's Veil of Illusion (98), и это же выражение повторяет Эш. Оно было бы понятно тому, кто знает немецкую этимологию имени “Шлейермахер” -- изготовитель покрывал, и вообще имеет вкус именно к немецкой игре корнесловиями. Поэтому Шлейермахер, само это имя, оказывается тайным языком тайных возлюбленных. Вероятнее всего, читатель романа Байетт должен вспомнить апологию Люцинды, принадлежащую Шлейермахеру, в которой он рассмотрел скандальный роман средствами традиционной экзегезы, как цветной покров мифа, скрывающий отвлеченные истины. Здесь, раз сам Шлейермахер оказывается разоблачителем иллюзий, а не их создателем, то герои призваны не иллюстрировать истину, но воплотить ее. Старые доктрины и однозначные интерпретации мифов становятся ложными (и соревнование Эша и ля Мотт в создании мифов -- это спорт по срыванию с них покровов, эксперименты по установлению невозможности ни скандинавской, ни бретонской систематической мифологии), и только реализация истинной задачи “водного” мифа как прямого движения страсти к цели, как страсти, которая способна животворить, а не только ветвиться на русла -- это и есть цель всего романа.
Смысл феминистского литературоведения, как он описан в романе -- не разрушение канона, а придание ему движения, вроде движения воды или движения волн, в отличие от застывших, не ритмических принципов мужского литературоведения. Только волнение, прибывшее в науку, и открывает перед протагонистом, Роландом Митчеллом, будущее. Тогда и оказывается, что история возлюбленной Эша не вписывается в образец Гретхен, хотя сама она была прилежным читателем Гёте, из чего мужское литературоведение (и Мод Бейли, возлюбленная протагониста, вроде бы склоняется сначала к этому выводу, пока остается в плену “регулярных мотивов”, 457) могло бы сделать вывод о том, что перед нами новая Гретхен. Именно феминистское литературоведение не дает Эшу остаться Фаустом в памяти читателей.





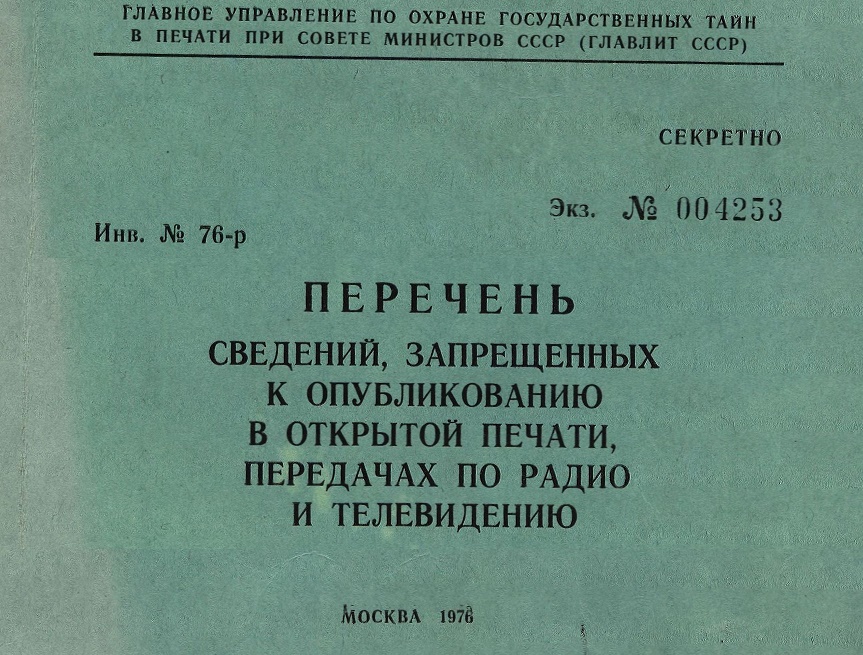 Цензура в СССР (10753)
Цензура в СССР (10753) О гомеопатии (7089)
О гомеопатии (7089) Студенты против математики (6491)
Студенты против математики (6491)

