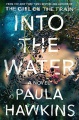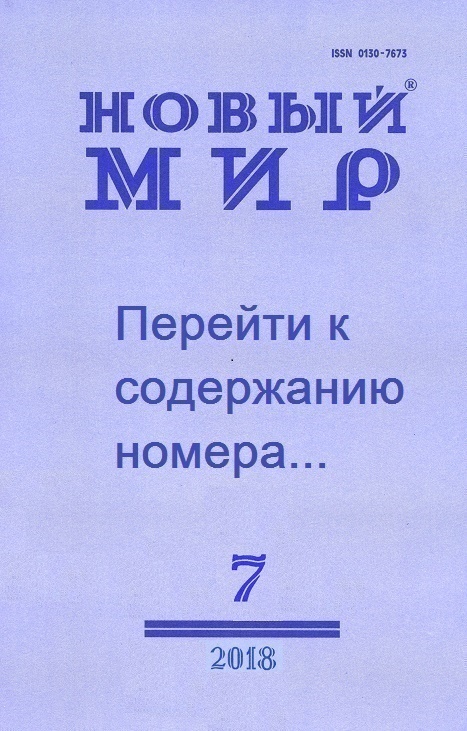
Самое популярное
Б/Б — Бертольд Брехт в постановке Бутусова.
Фигуры распределены. Христос-педик. Окровавленный отец. В спектакле нет того, кто «входит». На сцене с открытием занавеса все действующие лица, по парам: Мать-Отец, журналист-проститутка, мальчик-солдат, невеста-жених (неполный брехтовский набор). Нет пары только у Христа, которого нет в оригинале пьесы. Нет там и скальпирующего себя отца в штанах полицая и с голым торсом, вымазанным кровью (и дерьмом) двух войн – это прочтение Бутусовым оригинала ранней пьесы Брехта – он дорисовывает то, каким мог быть Брехт...
...каким мог быть брехтовский старик, спокойно рассуждающий о выгодах войны и готовый хладнокровно штамповать вместо потерявших в цене снарядов детские коляски. Он и у Брехта, и у Бутусова открывает действие. Он правит опасную бритву о ремень, привязав его к стулу, кожаной стороной вверх: у Брехта старик Бялике расчетливый делец (у окна экономит свет), у Бутусова не только; у Бутусова он — сумасшедший из стихотворения Арсения Тарковского (парик и вздыбленные, как от удара током, волосы говорят о том, что он безумен). Бутусов будто спрашивает зал – как можно бриться в полной темноте? – и отвечает – снимая с себя кожу (демонстративно отец Бялике проводит лезвием по корням волос, он не экономит свет, он сходит с ума от готовности вывернуться на изнанку ради наживы) – в России жить, как ждать удара в спину – легко представить, как этот человек советует – не жди, бей! – перед нами человек, который не осознает за что и чем платит, он и родную дочь толкает в руки лучшего дельца непросто потому, что так выгоднее – обвенчаться с Мурком, чем с трупом.
Да, труп не разделит с ним полученную прибыль (так у Брехта), но Мурка (свалившуюся на него удачу) старик Бялике принимает не за одно это. Мурк на вес золота не только потому, что голая выгода. Золото, не пролитая кровь, – мера послевоенного устройства: богатей или смерть. Мурк олицетворяет (и понимает) этот основной закон (он пишет его собственными мозолистыми руками) и может вырвать ее (стало быть, единственную и любимую безумцем дочь) из этого безумия (так у Бутусова). Вывести ее на свет. Она родит от него ребенка. Разбогатеют. Это учитель филологии у поэтов шестидесятников (Ефим Эткинд) может с осуждением удивляться цинизму отца Бялике. Мы (родившиеся в диком государственном капитализме) уже понимаем его природу. Сегодня мы знаем — это здоровая философия дельца, но Мурк…
Мурк может быть мягче этой семьи, имя которой «Нация и сталь», где лицо фабриканта Круппа лишь одна единица хранения в галереи портретов. Если оформлять выставочный зал — это будет не меньше военной галереи Зимнего Дворца, где те же циники. Пушкин, сбегавший от дворцовых колоннад из больший бальных зал, и проводивший время в военной галереи (это не фантазия, См. «Пушкин и военная галерея Зимнего дворца») разбирал представленные лица на циников и людей искреннего служения. Никого не интересует, что человек отдал войне. Всем интересно, что в эти «дьявольски ненадежные времена» можно с человека взять. С Мурка есть, что взять. Поэтому он «славный малый», – «мы за него должны на коленях благодарить Бога», – но Мурк не требует себе алтаря, ему тоже есть, что взять, и можно подумать, что на глазах зрительного зала совершается банальная сделка…
Мурк не торгуется, Мурк хочет ребенка. Да, он насилует ее на белом рояле в баре Пикадили, но так, будто хочет вытолкать из нее, из ее памяти – ввалившегося в этот бар Краглера (его самого и память о нем). На сцене оживает призрак в балетной пачке с кожаными сапогами на тонкой шпильке вместо пуант. Старик Бялике берется объяснить (раз так совпало и призрак вернулся), почему девчонка выскочила за другого; и чтобы лишить ее остатков страха, и только ради этого (уже проливши кровь за экономию электроэнергии), он кричит в зал – включите свет! Несомненная театральная удача. Сохранено и дыхание, и слово Брехта, и даже используется его метод (не выработанный еще им к моменту написания ранних пьес). Стремление вызвать зрителя на социальную оценку, раскачать на социальные эмоции – мощный социальный подтекст – Горловка. Переустройство мира.
Это кровь на наши лица! (нет, это трактовка одного из зрителей), но цель (то, что называется в театре «сверхзадачей», термин Станиславского) – заставить зрителя (уже по Брехту) вспомнить о себе, соотнести свой опыт с увиденным, чтобы не быть, как эти, дрыгающиеся на сцене бараны в момент, когда им мясник перерезает яремную вену и набирается таз крови, и мышечные конвульсии. Брехт выносит это наблюдение за человеческим существом (и общежитием) из медицины, и передает в тексте ощущаемое им, «наглецом и циником», как зовет его университетский профессор Кутшер (См. ЖЗЛ Копелева), с тем же неприятием, с каким интеллигентнейший Эткинд (учитель поэтов) зовет циником отца Бялике, а отец Бялике, как и Краглер, суть — обнаженное естество человека-барана, которому нужен пастырь, но всегда находиться волк. Волк, обрядившийся в безголосую шкуру и подобрав «клок сена» по-убедительнее, ведет стадо под барабаны (как воспитывали при Сталине) на убой.
Отец Бялике и сам отращивает клыки и в Мурке хочет видеть волка (и по Брехту Мурк соответствует ожиданиям старика Бялике, по Бутусову — нет). По Бутусову, им, этим волком, захочет стать Краглер, но только Анна, своим согласием выйти за него, спасает мир от этого восставшего мертвеца, от еще одного маленького диктатора. Бутусов, как Брехт, вломился в театральный мир не сразу, не от студенческого станка (или чего у них там, у театралов?), он побыл в шкуре барана, идущего, например, в вуз (как в стойло) потому, что так надо, затем угадывал себя (менял профессии – сообщает Википедия) и угадал. Несомненная удача! Брехт начинает свой путь в драматургию (как подобает немецкому художнику) с медицины. Перед зрителем открывается занавес и – фигуры распределены (и камень стены тоже фигура).
Камень проходит через все действие. Фигуры (каждая), как в театре кукол, представлены залу. Их девять. В центре – Андреас Краглер (белый призрак, как удается выяснить путем прочтения рецензий: в платье невесты). Тесть его уже приговорил – «четыре года прошло, он уже не вернется» – а Краглер, как бы думает – что говорить с этим сумасшедшим и обращается к трезвой (еще пока) матери, и спаивает ее, но за весь спектакль — он ближе к отцу Бялике. Материнскую линию перенимает Мурк. Это Краглер, как отец Бялике, — человек с изуродованным лицом. Это Краглер, как отец Бялике, жаден до реванша. Все отличие в том, что отец Бялике возьмет свое, используя систему (он — Джокер), а Краглер взорвет систему — он Спартак. И дальше зрителю предлагается решить: кто более безумен (когда безумны все).
Мурк безумен человечьим безумием — что ты хочешь? — просит он на коленях Краглера — чтобы я купил за 40 марок твои ботинки?.. но Краглер уже давно хочет, чтобы Мурк и все «буржуи» счищали грязь с его ботинок. По задумке Брехта Краглер вождь восстания в газетных кварталах, но изменяет революции с вернувшейся к нему дочерью безумного фабриканта. Барабанный ритм погружает и самого зрителя в состояние безумия – Фридрихштад Палас! – подчеркивая, с каждым ударом в барабан, что это безумие коллективно. И чтобы сохранить равновесие и остатки рассудка – молчащий Христос (за отцом, за этим кривляющимся безумцем с бритвой в темном проеме окна). Он бледен. Он тусклый свет, встречающий нас, зрителей. И этапы его пути. Это в его светло-тени пытается бриться отец. Для чего на сцене появляется этот человек в белой одежде с венцом мученика? Кто он? И откуда пришел?
Действие будет сменять одно другое через бой барабанов. В зал брошен выкрик: …штад паласс! – и этот человек в закатанных штанах меняет позу. Другие дергаются, он – меняет позу, то как бумажный солдат, послушен стянувшим его запястья красной и белой веревочкам, то раскинув руки распят на черном рояле, то закинув на рояль ноги, как бы снят с креста. Он молчалив и спокоен (единственный) среди этого ревущего безумия. Есть еще мальчик, за Краглером, черен на контрасте белых брюк, – ребенок в костюме Чарли (вечный ребенок), мальчик-блондинчик с болтающейся от живота то ли отстегнувшейся подтяжкой, то ли пуповиной. Крутит в руках обруч. В этом обруче, в кольце прожекторного луча, в круге света певунья услаждает слух развязного джентльмена в белых брюках и задает ритм. Мурку – чтобы насиловать. Краглеру – чтобы представлять себе… Это бар Пиккадили, который имеет теперь другое название – Отечество. Это с легкостью может быть и 34-й год в Германии и тот же год в СССР, «восстанавливающем понятия родина, патриотизм, народ, народный» (См. Лев Копелев, «и сотворил себе кумира») и сегодняшняя Россия.
Подмена понятий. Война – подвиг. Насилие – продолжение рода и защита отечества. И у Христа в этом Отечестве появляется пара – Мария Магдалена. И можно подумать, не та ли это проститутка Мари?.. но главная пара – Краглер и Чарли (или как его по спектаклю? – он важен, это он – тот ключ – который разрешил Бутусову распределить фигуры, в оригинале пьесы мальчиков два, братья Манке, их и по задумке Брехта играет один артист). Между ними Мурк, с темными усиками, пришедший свататься жених, ему симпатизирует окровавленный старик-отец: то ли полицай, то ли ветеран. У Мурка белое лицо, как у матери, которую играет артист с подходящими губами бантиком. Образ мужеподобной матери, усталой и изношенной за жизнь, тот случай, когда не хватает женственности и женщину характеризует наружность.
Мать – пара отцу, но бледна от непосильной ноши страданий, отец от пережитого сед и безумен. Он противопоставлен светлой части сцены, где добрый и тоже безумный журналист Бабуш (возвещающий как свет миру красную угрозу), где мать, сохранившая остатки рассудка (она на переднем плане, у стола, на котором графин), и лик Господний в разбитом и брошенном на пол стекле в виде постеленных под ноги артистам плит. У стола дочь, которую родная мать не может не жалеть. Неудавшийся зять будет ей подливать, супруг будет ей крутить как захочет. Она безвольно до блевоты, захлебываясь, будет пить, пока ее не начнет рвать, пока ей не заткнут рот, и не потащат за косу. Можно представить, что это не Германия, а какой-нибудь, условно говоря, Брянск. Дочь в красном платье под черный бант мучается от неразрешимых (и разрывающих ей душу) противоречий. Она выступает в паре с Мурком и от ночных кошмаров готова отдаться ему на белом рояле, но не может забыть и не может решиться снять траур. Мурк сам бледен от бессилия вырвать ее из этого «капкана».
Мурк хочет забрать ее себе, возможно, верит, что это для нее спасение. И зритель, на контрасте с Краглером (который даже встанет у белого рояля по сторону отца), начинает верить, что Мурк бы носил ее на руках (приятная сцена, где они стоят рядом), как свое дитя. За Краглером она будет ползать на карачках, и отдаваться ему в патриархальной позе, и знать свое место – у его ног. Он – воин. Он – победивший герой… но в заключительных сценах сядет голой жопой на те же камни, что и все его, рыгавшие огнем, предшественники. Старик кричит ей – «четыре года прошло, он уже не вернется» – стращает, что он сгнил, у него нет носа, он не вернется. За происходящим (пара журналисту Бабушу) с живым интересом наблюдает развязная проститутка Мари, ненасытная и жадная, как сама война, не чета затравленному журналисту. Журналист подобен Христу и скромен, как Чарли.
Кто этот Бабуш? Он и поэт, и четвертая власть, и просто сохранивший остатки рассудка. Он пытается вразумить, но остановить это безумие не может. Ему тошно от бессилия и, вместе с тем, хорошо известно, говоря языком одного молодого поэта «какую силу обретает слово» (как бы сказал специалист по риторике: слово заставляет нас видеть внешние признаки человека), а в Мари один стон. Жадный и требующий – еще… Это она сидит слева от окровавленного отца, смотрит в зал одним глазами и открывает второй с действием спектакля, почти с открытием занавеса. Куски камня, разбросанные по сцене, с орнаментом сожженного храма Афины усиливают этот стон упоения и злорадства, идущие из чрева проститутки Мари. В ней можно видеть, как бурлит оргазм.
В Бабуше бурлит ужас. Их играют артисты противоположного пола, мальчика играет девочка. Здесь все на стыках и голоса надрывные, истеричные. Мари забавляет война, как сцена семейной ссоры. Журналиста война съедает, он почти обезумел и слезы выплаканы, и невозможно передать всего. Он в следующей сцене пойдет по битому стеклу, по этой лунной дорожке (используя метафору Высоцкого), как по лезвию ножа, снимет с себя ботинки (а это соответствует его фамилии, Бабуш, т.е. босоногий) – и так изрезана его душа, он ничего не изменит, и не может молчать, для него эта сцена ссоры, тоже театр войны. Застывший как от удара тока парик отца венчает метафору гуляющего по сцене безумия, он (парик) — пара венку на голове Христа. И предсказуемая реакция – зритель в ритме, как зомби заведенный. С ним впрямую будет говорить со сцены мальчик, обнаруживая картавость – главная жертва войны – а сам зритель заговорит голосом Христа. Это метод Брехта (и еще один намек на происхождение Чарли). Зрителя постепенно забирает – это безумие коллективно. Бурление под барабаны.
Фридрих штад паллас! – кричит мертвый солдат, бьет в барабан и умывается кровью, и зритель погружается в это безумие – Фридрих штад паллас! – Солдат отдал все, глаза, душу, но не способен перестать видеть в войне, в смерти, в случайной проститутке ту, кем владеет, возлюбленную, которой страшно спать одной в родительском доме. Он Дон-Кихот, а Фридрих штад? – это театр. Он есть и его не существует. Он пережил обновление (сгорел под бомбежкой как наш Вахтанговский). Главная декорация – житие Христа. Выкрик! – и фигуры начинают дергаться, как куклы на ниточках, подчиняясь невидимому кукловоду. Зритель не видит его, но он как туча проступков наших, где-то над театром, как над картонной коробкой, надвигается на нас всей грудью, растопыривает пальцы и дирижирует этим страшным военным маршевым оркестром. Разминает нам плечи, руками Краглера, усыпляет. Невидимый творец. Он управляет всеми этими орущими фигурами и спускает светящиеся фонари с неба.
И звук: то ли бомбардировщика, то ли дикого хора лягушек. Кто они, что могут только дрыгаться и издавать страшные звуки? Лягушки! Их даже не спросят, когда соберутся препарировать в анатомическом театре. И мы не в старейшем театре Европы, не в этом «Фридрихштад Палассе», мы в банальной анатомичке. Куда перейдет сцена ссоры? В морг, где все успокоятся. В анатомичку, где Брехту скучно, где Брехту давно надоел старый профессор Кутшер, и он придумал забавлять себя и нас таким дурацким способом. Мы, мнящие себя ангелами вечно живыми, входим в кожу этих жалких дрыгающихся лягушек и, если найдем в себе силы, вживемся в эти роли, наденем их лягушачью кожу, чего и добивается Брехт (и перелицевавший его режиссер Бутусов)…
…войдем, вживемся, натянем на себя бородавчатую кожу, и вот мы уже не зритель, а фаустофский подопечный на холодной несвежей клеенке, или на камнях, а наша душа поднимается вверх по лунной дорожке, оставляя в одном конце, на краю сцены, ближе к портеру, одежду, а в дальнем, недоступном зрителю, то, что называется кулисы (родственно слову кулер) — Мерцание. Непредсказуемо. Это ощущение усилит брехтовская простыня и это над нами клубится дым, в дыму героиня хоронит своего ребенка, ставя над ним розу. Здесь двойственность. По пьесе, Краглер забирает ее с ребенком… В версии Бутусова мы видим, как Мурк теряет своего ребенка.
Во что переодевается из балетной пачки Краглер? Из платья невесты в солдатские штаны, а из солдатских штанов сразу в гражданское. Как появляется Краглер? У Брехта, мы знаем, он входит как Швейк, только цвет мундира другой, темно-синей, и с курительной трубкой во рту. У режиссера Бутусова он маленькая балерина – призрак без полу и плоти. Ни намека на то, что живехонек. Вначале. Затем переодевание и он в солдатских красноармейских галифе, и требователен как вождь рабов – меня до последних нот – и кто? – Москва (!) вызубрит.
Брехт так хотел, назвать свою вторую пьесу в честь предводителя восстания рабов — Спартак. И Краглер — Спартак, он Маяковский, жестом Вознесенского декламирующий стихи как зонг, и легенду о мертвом солдате с завязанными глазами умирающем у стены, он читает как расстрелянный в сталинских застенках помощник лидера немецких коммунистов Тельмана Ганц Нойман (прошу прощения за незнакомые фамилии, но Брехту они известны). Брехт — пятый в гитлировском списке на уничтожение и если бы пивной путч удался…
Сталин и Россия (под псевдонимом СССР) приложили руку к тому, чтобы немецкие пролетарии пошли за Гитлером, а сегодня Горловка. Не сразу догадаешься, что эти плиты с нанесением фольги под ногами артистов – битое стекло от бомбежек и лунная дорожка, а в последнем действии, когда с неба сойдет белый экран и зрителю покажут Берлин после бомбежки, эти плиты будут символизировать небо, упавшее на головы людей, а камни, на которых сидит Анна Бялике – это камни Берлинской стены. Кто ее отец? Безумец? Нет. Отец Бялике убивал беглецов из Восточной Германии. Он – палач. Мы видим таблички с именами убитых при попытке к бегству. Он – полицай. Он стрелял в людей, а Краглер – он строит стену, переодевшись в гражданское. Он относиться к Анне – не сиди на камнях – как отмахивается. Ему все пыль. Как писал когда-то один путешественник по сталинской России: мужчины здесь тени, женщины не мужчины. И только хладный Краглер в кашемире отказывается быть тенью, высокомерен, он требует внимания к себе, взяв в руки саксофон, а кто с трубкой?
Мурк! — бюргер, по нашему «буржуй», в этой каше (Брехта/Бутусова). Мурк — труженик. Краглер — булыжник, брошенный в эту мерцающую дорожку. В эту дорожку, покрытую пылью, артисты будут глядеться, как ребенок в лужу, чтобы размалевать себе лицо – по ней Христос в закатанных штанах будет перемещаться как по воде и прыгать, как по болотным кочкам, растопыривая пальцы ног, как лягушонок. Всегда подчеркивается символика воды и «растопыренность» человека, будто он вечно распятый на кресте жизни, будто он препарированный лягушонок и вместо пальцев – «перепонки». Это слово будет звучать из уст отца-безумца. Он так будет отговаривать страдающую от ночных кошмаров дочь, чтобы не ждала – а Краглер явиться для того, чтобы строить стену и смотреть с нее, как другие роют себе могилу, как это делает Мурк (себе и своим детям).
Перед нами люди с посаженным здоровьем, взлохмаченные, злоупотребившие свободой, отдалившиеся от света, чахлые души. У Мурка бледное лицо, можно себе представить, как он зарабатывал, портняжка, первый капитал – он и руки протянет, чтобы зритель убедился – красные глаза, синяки от курения и недосыпа. Не бумажки — свой труд он будет бросать к ногам мертвого солдата. Он хороший человек. Мы должны молиться на него – говорит отец. Посмотрите на мои руки – говорит Мурк. Вместо оружия войны, всю жизнь Мурк держал в руках орудия труда, но благодарить следует Краглера, за его сапоги, прошагавшие пол земли. Мурк вынужден оправдываться – разве я виноват? разве я послал тебя туда? – и сам не рассчитывает на прощение Краглера, а Краглер забывает, что не он Судия. Краглер — палач. Мурк — шут.
Краглер страшен в своем желании владеть. Мурк – добрый человек, не нашедший себе места в этом безумном мире, он обязателен и тверд в своих обязательствах – мы должны молиться на него – и доведен до состояния, когда сам бы предпочел, чтобы из его головы изъяли все мысли, из сердца всю энергию и от отчаянья сам роет себе могилу… но хоронить в ней будет не себя, он расскажет, как мистер Целофан (в мюзикле Чикаго) свою печальную историю надев на себя красный клоунский нос. В спектакле сохранен брехтовский юмор и брехтовская легкость с которой зрителя начиняют свинцовыми шариками брехтовских переживаний. Фридрих штад палас! – как по Годару «плотный монтажный стык» соединяет действия спектакля, заставляя зрителя оторваться от кресел, как подняв голову из бочки с водой, встряхнуться и перевести дыхание перед следующим действием. Оригинальна, по брехтовски, смена декораций – 30 секунд без музыки…
…и мальчик водит ножкой перед занавесом. Стыдно содеянное человеком, но Краглер, один из участников бойни не знает стыда, и не раскаивается. Стыдно Мурку. Он исполняет арию Мекки Ножа из другой брехтовской пьесы. Будто он – бандит и вор. Его текст, одни оправдания: «каждый мужчина хорош, если не лезет в герои», «я самый лучший в мире человек, когда мне никто не мешает» — оригинальный брехтовский юмор, почти моление. Эффектный уход Мурка – это Бутусов – в пьесе он просто и банально гаснет в баре. Мурк – погибший замысел. Зритель симпатизирует Мурку, в той мере, в какой зритель может симпатизировать, и только на контрасте с солдатом. Мурк – тень, но к Мурку обращена белая фигура. Отец Бялике, убийца и палач, свету противоположен, а Краглер? Кто он? – то ли порабощенный негр, то ли вывален в грязи помойки, то ли сам в этой помойке пепел…
…и Тимофей Тряпицын прекрасно вписывается в пропитой алкашный образ солдата войны. Зрителю предлагается утвердить на роль Краглера, например, Шнура. В Питере тире пить. Фридрихштад Паласс! – это такое долгое тире, которое переводит нас от одной фразы к другой, монтажный стык, из Германии в Россию и куда угодно. Тире, которое не дает забыть, что это такой коллективный монолог жертв времени… «время сейчас неблагонадежное – война кончилась». С самого начала, оригинальным текстом Брехта, нас погружают в недодуманность чувств. Когда нет осознанности, и не может быть. Одни рефлексы. Христос пускает пузыри, а когда заговорит (про сосенки), его слова сопровождает комментарий: раздался голос из помойки. И как можно среди помойки (где мертвые тела) рассуждать о сосенках? Как говорит герой Гармаша в фильме Стиляги – господи, вытащи меня из этой помойки. Помойка – метафора войны, и самая удачная. Еще, помойка – чрево мегаполиса. Помойки не вмещают всей жизни нашей, как души - свет.
Мурк, в гиблых газетных кварталах, единственный не возгордился, человек с чистым и мягким сердцем, и это его, а не героя войны, обнимает Христос (которого нет в спектакле!) – Эффектный уход двух равных. Здесь все в тени и оттенено, как противовоздушным прожектором. Христа нет на сцене, как нет его в пьесе. Это Лаар – крестьянин. Се – человек. И Бутусов разделяет сцену, на тех, кто считывает текст и ужасается ему, и тех, кто мыслит по рецептам – Фридрихштад Палас! – от которых у самого ненормального и невосприимчивого волосы встанут дыбом — …штад паласс — по этому разделительному лучу идет Бабуш, как по верхней кромке стены. Старик Бялике, как мамка в барделе, торгуется за дочь, а был когда-то, подобен барабанщику в газетных кварталах, наивен и окрылен – встань пораньше, встань пораньше – из этих фигур каждый пожертвовал на барабан свою кожу. Новый мир – как обтянутый кожей обруч. В конце, с угла, где одежда, на сцену выкатывают телевизор – время неблагонадежное – это напоминание нам, зрителю, что пока мы здесь, существует Горловка и где-то есть другие подмостки, для которых Брехт реален… в звуке рвущихся снарядов…
…а где расположен этот телевизор? В больницах, где ослабленные организмы. В университетах, где неокрепшие умы. И еще кухни, где люди, уставшие от работы, мечтают отключить мозги. Стена надвигается на зрителя – это наша политика. Телевизор учит думать «по рецептам». Пока мы смотрим телевизор, стена приближается к затылку. Как говорил сам Брехт: кто не читает газет – не информирован, кто читает – дезинформирован. Зрителю, с выкатыванием на сцену телевизора, предлагается додумать: когда телевидение стало таким [петро-толстовским]? Раньше газетные декреты, теперь телевидение, как сказал бы Леонид Андреев (См. SOS): это тот клок сена, которым заманивают в стойло. Сейчас будет приземленное сравнение. Я не могу тыкать немцам Гитлером, равно как я не могу войдя в чужой дом, говорить — у вас здесь пыльно, а здесь обои отклеились — так рассуждает Брехт (в русской интерпретации) и Бутусов помогает зрителю угадывать этот социальный подтекст — но у себя дома — Брехт был женат дважды — мы можем говорить: здесь пыльно, а здесь обои отклеились, давай я займусь обоями, а ты пылью?